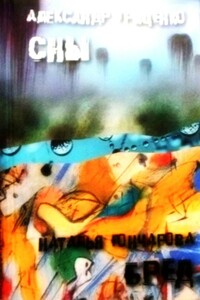Переворот | страница 54
Однако Эллелу медлил с отъездом и пробыл в Истиклале весь месяц шавваль, который салю называют месяцем нерешительной луны. Акланы туарегов, которых западная пресса несправедливо называет рабами, выкорчевали куски соли с засохшего дна озера Хулюль и привезли на юг, чтобы обменять на корюшку, ямс, амулеты и порошок, усиливающий потенцию и состоящий в основном из тертого рога носорога. Микаэлис Эзана рьяно следил за экономическими показателями по добыче соли с надеждой, что их рост положит конец долгому экономическому спаду в Куше.
Как-то раз Эллелу при всех своих регалиях, с большим зеленым флагом, развевающимся на крыле «мерседеса», отправился к своей первой жене Кадонголими на ее многолюдную виллу в Ле Жарден.
У дверей его встретил тощий полуголый мужчина с раскосыми глазами и туго натянутой кожей цвета кофе, какая отличает племя хауса; хотя было одиннадцать часов утра, он был пьян от пальмового вина, и Эллелу признал в нем своего зятя. Комнаты на вилле были застланы козьими шкурами и рафией, а потолки почернели от дыма костров, на которых готовили пищу, поэтому атмосфера тут своими запахами походила на ту, что царила в родной деревне диктатора, где он женился на Кадонголими, когда ей было шестнадцать лет. Дети — среди них были, по всей вероятности, и внуки Эллелу — бегали, крича и хлопая побитыми, в зарубках, заляпанными дверями виллы; жалюзи и шпингалеты на окнах были поломаны и не действовали, так что в комнатах было темно, как в хибаре, а ведь они были устроены с таким расчетом, чтобы внутрь проникал мягкий свет, как на юге Франции. Запахи прогорклого масла, жареных земляных орехов, толченого проса, соленой рыбы и человеческих испражнений смешивались в воздухе в этакую кашу, которую Эллелу, немного попривыкнув, нашел чудесной: это был запах его племени салю. Он расстегнул верхнюю пуговицу своей рубашки хаки и подумал, что зря не бывает чаще у Кадонголими. Здесь чувствовалась сила земли.
Совершенно голая и в то же время целомудренная девчушка подошла и взяла его за руку так естественно, как могла взять только дочь. Он попытался найти в памяти ее имя, но вспомнил только лицо в ореоле косичек и слегка опущенные, как у Кадонголими, края губ, а также более короткое, более кряжистое тело без свойственной молодости гибкой стройности. Девчушка повела его по проходам, где стоял треск и звон, мимо комнат, где люди сидели на корточках группами и парами, где штопали, мешали пищу в котлах, плакали, кормили младенцев грудью, ругались, ворковали, предавались любви, дышали и занимались всем этим с благоволения смотревших на них жилистых деревянных фетишей, украшенных краденым мехом и перьями; это присутствие божеств не вызывало отвращения и не казалось нелепым среди циновок, камней для толчения, огромных мисок и высоких ступок, не служащих украшениями, как в эклектической вилле Ситтины, а составляющих здесь часть повседневной жизни, коричневой и примитивной, как кожура семени, которая лопается, выпуская на волю новую жизнь. На память Эллелу пришел язык его детства — с ударениями, свойственными родной части края земляного ореха, с проглатываемой буквой «л» и прищелкиваниями языком. Племянники, невестки, тотемные братья, сестры вторых жен двоюродных дядей приветствовали Эллелу, причем все с ироническим ликованием — надо же, он, из племени салю, сумел обставить чужие племена, став во главе этой страны, созданной белыми людьми, и тем самым присвоив все ее блага для их семьи. По лицам этих родственников ясно было, что несмотря на все маски, которые меняющийся мир заставлял его носить, он по-прежнему был одним из них, что никакой нектар или эликсир, который мир способен предложить Эллелу в качестве напитка, не сравнится с любовью, которую он вобрал в себя из их общей крови. И это было правдой: с тех пор как он занял свой пост, эта вилла поглотила виллы справа и слева, и в центре Ле Жарден возникла обширная деревня — в ней не хватало только круглых зернохранилищ из белой глины, окружающих, словно гигантские жемчужины, хибары.