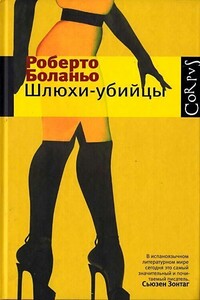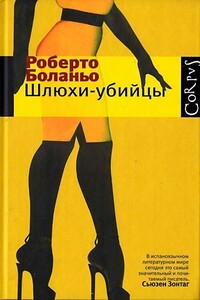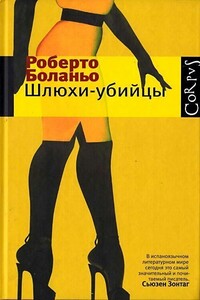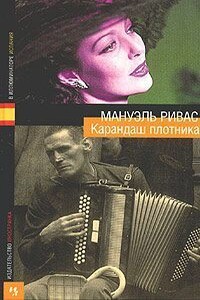Чилийский ноктюрн | страница 21
все как есть. При этом движения могут быть разными. Мы двигаемся, как газели или как тигр, который мечтает поймать газель. Мы двигаемся, как на картине Вазарели.[36] Как будто у нас нет тени, но этот ужасающий факт нас не трогает. Разговариваем. Кушаем. А на деле стараемся не думать, что мы говорим, не думать, что мы едим. Как-то поздно вечером я узнал, что умер Неруда. Позвонил Фэрвеллу по телефону. «Умер Пабло», – сказал я ему. «Это от рака, от рака», – отозвался Фэрвелл. «Да, от рака», – подтвердил я. «Мы пойдем на похороны?» – «Я да», – сказал Фэрвелл. «Я пойду с вами», – решил я. Повесил трубку, было ощущение, что разговор происходил во сне. На следующий день мы отправились на кладбище. Фэрвелл был очень красив. Он походил на корабль-призрак, но был весьма элегантен. «Мне возвращают усадьбу», – сказал он мне на ухо. Траурная процессия была многочисленной, по мере движения к ней присоединялось все больше народа. «А вон козлы-пидоры – добры молодцы», – процедил Фэрвелл, и я посоветовал ему следить за собой, заметив, что он подмигивает каким-то незнакомцам. Это были молодые люди хмурого вида, но мне они показались будто пришедшими из сна, в котором плохое или хорошее настроение было лишь метафизической случайностью. Я услышал, как позади нас кто-то, узнав Фэрвелла, сообщил кому-то: «Это Фэрвелл, критик». Слова как бы выскакивали из одного сна и попадали в другой. Потом кто-то стал кричать. Истерика. Другие вторили. «Что за кощунство!» – пробурчал Фэрвелл. «Кликуши, – отозвался я, – не обращайте внимания, скоро кладбище». – «А где сам Пабло?» – спросил Фэрвелл. «Впереди всех, – сказал я, – в гробу». – «Не идиотничайте, – сказал Фэрвелл, – я еще не стал маразматиком». – «Извините», – усмехнулся я. «Так и быть, – смилостивился Фэрвелл. – Жаль, сейчас уже не те похороны, что были прежде». – «И в самом деле», – согласился я. «С панегириками и всяческими прощаниями», – добавил Фэрвелл. «На французский манер», – согласился я. «Какую прекрасную речь я мог бы написать в честь Пабло», – сказал Фэрвелл и заплакал. Все как во сне, подумал я. Выходя с кладбища под руку с Фэрвеллом, я заметил какого-то типа, который спал, притулившись к могиле. По спине у меня пробежала дрожь. Последующие дни были довольно спокойными, я уже устал от чтения стольких греческих авторов, поэтому снова вернулся к чилийской литературе. Попробовал писать стихи. Поначалу выходили одни ямбы. Потом не знаю, что произошло. Моя ангельская поэзия стала бесовской. Сколько раз по вечерам у меня возникал соблазн показать эти вирши моему духовнику, но я не сделал этого. Писал о женщинах, которых бичевал нещадно, писал об извращенцах, о детях, пропавших в железнодорожных тупиках, где стоят покинутые поезда. Моя поэзия всегда была, если определять ее одним словом, аполлоновской, а та, что у меня получалась сейчас, была скорее дионисийской. Однако на самом-то деле она была и не дионисийской. И даже не бесовской. Она была неистовой. Ну что мне сделали эти бедные женщины, возникавшие в моих стихах? Хоть одна из них меня обманула? И что мне сделали эти бедные извращенцы? Да ничего, ничего они мне не сделали! Ни женщины, ни гомики. И еще меньше, видит Бог, дети. Тогда за каким чертом, извините, написал я об этих несчастных детях, которых жизнь закинула в заброшенные тупики? Может быть, одним из них был я сам? Может, это были дети, которых я никогда не буду иметь? Или речь шла о потерянных детях других, тоже потерянных, существ, которых я никогда не узнаю? Но тогда откуда столько злости? Будничная моя жизнь протекала самым мирным образом. Говорил я ровным голосом, никогда не сердился, был пунктуален, придерживался распорядка. На ночь молился и засыпал без труда. Иногда мне снились кошмары, однако в те времена они всех мучили – кого больше, кого меньше. По утрам, несмотря ни на что, я вставал отдохнувшим и настроенным на решение текущих задач. Однажды таким вот утром мне сообщили, что двое пришли с визитом, ждут в гостиной. Я закончил умываться и спустился. На деревянной скамейке у стены сидел сеньор Одейм. Сеньор Ойдо стоял, заложив руки за спину, и изучал картину одного художника, называвшего себя экспрессионистом (хотя на самом деле он был скорее импрессионист). Завидев меня, оба заулыбались, как улыбаются старому другу. Я пригласил их позавтракать вместе. К моему удивлению, оба заявили, что уже давно успели позавтракать, хотя часы на стене показывали восемь с минутами. Согласились выпить со мной чаю только за компанию. «А мой завтрак как раз и состоит из чая, – сказал я, – а еще из тостов с маслом и мармеладом и стакана апельсинового сока». – «Ну, это сбалансированный завтрак», – заметил сеньор Одейм. Сеньор Ойдо ничего не сказал. Служанка накрыла на стол – по моей просьбе на веранде, откуда открывается вид на сад и деревья, частично загораживающие стены соседнего колледжа. «Нам поручено сделать вам очень деликатное предложение», – сказал сеньор Одейм. Я молча кивнул. Ойдо взял один из моих тостов и стал намазывать на него масло. «Дело исключает какую бы то ни было огласку, – продолжал Одейм, – особенно сейчас, в этой ситуации». Я ответил, что понимаю. Сеньор Ойдо надкусил тост и стал смотреть на три огромные араукарии – гордость колледжа, – вздымавшие свои ветви в глубине парка. «Вы знаете, падре Уррутиа, этих чилийцев – всегда горазды приврать, даже без всякой задней мысли, должен заметить, но мастера приукрасить, каких мало». На это я ничего не ответил. Сеньор Ойдо в три надкуса покончил с бутербродом и принялся за второй тост. «Что я хочу этим сказать? – риторически продолжил сеньор Одейм. – То, что повод, который привел нас сюда, требует сохранения его в секрете». Я снова ответил, что понимаю. Сеньор Ойдо налил себе еще чаю и позвал служанку, щелкнув большим и средним пальцами, чтобы она принесла ему немного молока. «Что же вы понимаете?» – спросил Одейм, улыбаясь искренне и дружелюбно. «То, что от меня требуется абсолютная секретность», – ответил я. «Более того, – настаивал Одейм, – сверхабсолютная секретность и такая же необычайная осторожность». Мне хотелось стилистически его немного подправить, но я молчал, потому что надо было узнать, наконец, чего же они от меня добиваются. «Вы что-нибудь знаете о марксизме?» – спросил сеньор Ойдо, промокнув губы салфеткой. «Знаю кое-что, но лишь в рамках моей эрудиции, – ответил я. – То есть трудно найти кого-либо более далекого от этого учения, чем я, это может вам кто угодно подтвердить». – «Но вы знаете или не знаете?» – «Ну, кое-что знаю», – ответил я, начиная нервничать. «В вашей библиотеке есть книги по марксизму?» – спросил Ойдо. «Да Бог мой, это не моя библиотека, а библиотека нашего духовного общества; там, наверное, что-то найдется, но только для справки, чтобы, к примеру, аргументировать ту или иную философскую работу, направленную, как правило, против марксизма». – «Но вы, падре Уррутиа, имеете и свою библиотеку, личную, частную – какие-то книги здесь, в колледже, а какие-то дома, в доме вашей матери, или я ошибаюсь?» – «Да нет, не ошибаетесь», – пробормотал я. «Так в вашей личной библиотеке имеются или не имеются книги по марксизму?» – настаивал сеньор Ойдо. «Пожалуйста, ответьте – да или нет», – умолял Одейм. «Да», – сознался я. «И при случае вы могли бы утверждать, что знаете кое-что и даже больше о марксизме?» – нажимал Ойдо, вперив в меня пристальный, испытующий взгляд. Я взглянул на сеньора Одейма, ища поддержки. Тот сделал мне знак глазами, который я не понял: это могло быть и «будьте осторожны», и «все в порядке». «Не знаю, что и сказать», – вымолвил я. «Да скажите хоть что-нибудь», – произнес Одейм. «Вы же меня знаете, я не марксист», – заметил я. «Так вы знакомы или нет, скажем, с основами марксизма?» – не отступал сеньор Ойдо. «Да с ними каждый знаком», – возразил я. «То есть изучить марксизм вам не составит особого труда», – заключил Ойдо. «Да, это не очень трудно», – сказал я, причем нервная дрожь била меня с ног до головы, сейчас мне как никогда острой казалась нереальность происходящего. Сеньор Одейм похлопал меня по колену. Жест был дружелюбным, но меня чуть не подбросило. «Ну, если это несложно выучить, значит, не так сложно и преподавать», – сделал вывод Ойдо. Я молчал, пока не понял, что они ждут от меня ответного слова. «Да, этому, должно быть, нетрудно научить. Но мне этого никогда не приходилось делать», – заметил я. «А теперь у вас есть такая возможность», – сказал сеньор Ойдо. «Возможность послужить родине, – добавил Одейм. – Послужить скромно, без огласки, без блеска медалей». – «Короче говоря, служба, которая требует держать язык за зубами», – сказал Ойдо. «Быть немым как рыба», – поднял палец Одейм. «Рот на замке», – добавил Ойдо. «Молчать как могила», – развил мысль Одейм. «И речи быть не может, чтобы ходить и хвастаться направо и налево, эдак, понимаете ли, в порядке развлечения», – заметил Ойдо. «И в чем же будет состоять эта деликатная служба?» – спросил я. «В том, что вы дадите несколько уроков марксизма – не много, но достаточно для того, чтобы иметь представление, – нескольким господам, которым все чилийцы ныне многим обязаны», – сказал сеньор Одейм, приблизив свое лицо и обдав при этом мой нос ужасным зловонием. Я не удержался и поморщился. Этот жест неудовольствия заставил Одейма улыбнуться. «Не ломайте голову, – сказал он. – Вы никогда не догадаетесь, о ком идет речь». – «А если я соглашусь, когда начнутся занятия? По правде говоря, у меня накопилось много работы», – сказал я. «Ну, не надо прикидываться дурачком, – бросил сеньор Ойдо. – От того, что мы вам предлагаем, не отказываются». – «От этого никто не стал бы отказываться», – сказал Одейм примиренчески. Я счел, что опасность миновала и мне следует держаться потверже. «Так кто будут мои ученики?» – спросил я. «Генерал Пиночет», – ответил сеньор Ойдо. Я сглотнул: «А еше кто?» – «Генерал Ли, адмирал Мерино и генерал Мендоса, кто там еще?» – сказал, понизив голос, Одейм. «Мне нужно подготовиться, – заявил я, – в этом деле нельзя так, с наскока». – «Занятия должны начаться через неделю, вам достаточно времени?» Я ответил, что да, лучше бы, конечно, через две недели, но и одной, наверное, будет достаточно. Затем сеньор Одейм заговорил об оплате. «Хотя это и служба родине, – сказал он, – но ведь и кушать что-то надо». Скорее всего, я с ним согласился. Не помню, о чем еще мы говорили. Неделя прошла в той же атмосфере полудремы, что и предыдущие. Однажды вечером, выйдя из редакции газеты, я увидел автомобиль, присланный за мной. Мы поехали в колледж за моими записями, а затем машина затерялась в ночных улицах Сантьяго. Рядом со мной на заднем сиденье ехал полковник Перес Ларуш, который вручил мне конверт (я не стал его пока вскрывать) и еще раз напомнил о том, на чем настаивали сеньоры Ойдо и Одейм: абсолютная секретность во всем, что касается моей новой работы. Я заверил его, что все будет в порядке. «Ну тогда ни слова больше о деле, наслаждайтесь поездкой, – заявил полковник Перес Ларуш и предложил выпить стаканчик виски, от которого я отказался. – Это потому, что вы в сутане?» – спросил он. Только сейчас я вспомнил, что, заскочив в колледж, сменил свою «тройку», в которой ходил в редакцию, на облачение священника. Я отрицательно качнул головой. Перес Ларуш сказал, что знал нескольких священников, которые были не дураки выпить. Я ответил, что в Чили, как мне кажется, трудно найти человека, священника или кого еще, который был бы не дурак выпить. Скорее, в этом смысле все мы как раз дураки. Как я и ожидал, Перес Ларуш со мной не согласился. Пустился в какие-то рассуждения, но я его не слушал, а размышлял над тем, что меня побудило сменить одежду. Может быть, мне подспудно хотелось предстать перед моими именитыми учениками, как и они, – в своей форме? Или я чего-то боялся и увидел в сутане некую защиту перед лицом очевидной и неминуемой опасности? Я попытался отодвинуть занавески, закрывавшие окна машины, но не смог. Их зажимал металлический прут. «Это из соображений безопасности», – пояснил Перес Ларуш, который еще не устал перечислять чилийские вина и чилийских пьянчуг, не доступных унынию, будто цитировал, даже не подозревая об этом, разнузданную поэму Пабло де Роки.
Книги, похожие на Чилийский ноктюрн