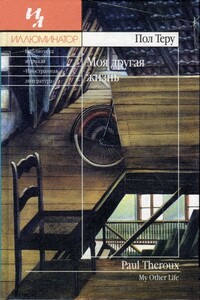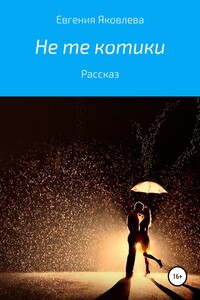Ложь | страница 82
Укатила она в сторону Ларсоновского Мыса и «Пайн-пойнт-инна».
80. Я издавна привыкла быть одна и — еще с времен Бандунга — решила нести свои тяготы в одиночку. Детство я провела одна, в частной школе мисс Хейлс. И пятнадцатое свое лето провела здесь одна (с дядей Бенджамином), мама тогда уехала к папе на Яву. А потом и я — одна — проделала долгий путь из Сан-Франциско через Гонолулу и Манилу в Сурабаю. Кажется, я вечно была одна.
В ту ночь, когда убили моего отца, я видела, как дождь смывает его кровь. И в моем сознании дождь стал его кровью. Наутро целые лужи ее стояли по всему лагерю. Она окружала меня, стоявшую на островке. Я была в шоке, но хорошо помню, как стояла и думала: я не могу двинуться с места, не могу уйти. Ведь мне бы пришлось брести по отцовской крови.
Мой островок был просто кочкой, горсткой земли, прикрывавшей корявый корень — кажется, тапангового дерева, которое росло за оградой. (Деревья возле ограды вырубили из опасения, что мы выкарабкаемся на свободу. Но у тапанга корни огромные, само дерево находилось во многих ярдах отсюда.) Я простояла на островке все утро, не смея пошевелиться. До сих пор чувствую кожей свое платье — выцветшее ситцевое платье с застежкой на пуговки, от горла до талии, старое, рваное, в заплатах. Волосы слиплись, космами падали на лицо, слепили глаза. Я плакала. Несколько часов, без единого звука. Точно помню, что плакала — слезы были горячее дождя. И мочилась, стоя там, и теплая моча ручейками стекала по ногам. Но мне было наплевать.
Пока продолжались эти мучения, моя мама — Роз Аделла — сидела, откинувшись на руки обступивших ее женщин, в открытом углу просторной террасы, которая тянулась по фасаду нашего барака. Помертвевшее овальное лицо утратило всякое выражение, и вся ее несносная красота стала ненужной — живость исчезла, навсегда. Зачем, зачем отца убили у нее на глазах! Они — глаза — умерли, наверняка вместе с ним. И смотрели на меня так, как чьи угодно глаза смотрят на незнакомого человека, стоящего под дождем.
Остальные женщины молча — чуть ли не в коме от духоты, царившей под железным навесом, — толпились возле нее, в том же углу, опять-таки наблюдая за мной, словно я была персонажем их снов. Одни стояли прислонясь к столбам, скрестив руки на груди и полузакрыв глаза. Другие — плечом к плечу, облокотясь на перила, свесив руки наружу и чуть пошевеливая ладонями в текучем воздухе, как обычно делают женщины, сидя в лодке. А дождь, падавший между нами, создавал — и до сих пор создает — бисерную завесу, сквозь которую я видела и буду видеть всегда, как моя мама тает вдали, будто уплывает на корабле. Даже не помахав на прощание рукой. Она просто смотрела на меня и ушла, бросила меня.