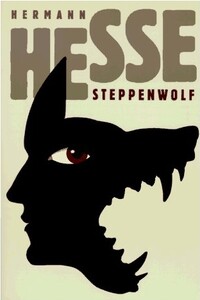Гертруда | страница 56
— Это будет вещь, ваша опера! — взволнованно воскликнул он. — Увертюру к ней я уже чувствую в пальцах! А теперь мы с вами пойдем и выпьем добрую кружку, старина, и, не будь это нескромностью с моей стороны, я сказал бы — выпьем на брудершафт. Но навязывать вам это я не стану.
Я с охотой принял его предложение, и мы провели веселый вечер. Тайзер впервые привел меня к себе на квартиру. Недавно он перевез сюда сестру, оставшуюся в одиночестве после смерти матери, и не мог нахвалиться тем, как уютно ему теперь живется при налаженном хозяйстве после долгих лет холостяцкого житья. Сестра его была скромной, веселой, простодушной девушкой с такими же светлыми, детскими, радостно-добрыми глазами, как у брата; звали ее Бригиттой. Она принесла нам пирог и светло-зеленое австрийское вино, в придачу — ящичек с длинными виргинскими сигарами. Первый бокал мы выпили за ее здоровье, второй — на брудершафт, и пока мы ели пирог, пили вино и курили, добряк Тайзер, охваченный искренней радостью, то и дело прохаживался по комнатке, и садился то за фортепиано, то с гитарой на канапе, то со скрипкой на угол стола, играл что-нибудь красивое, что приходило ему в голову, пел, весело блестя глазами, и все это в мою честь и в честь моей оперы. Оказалось, что сестра — одной с ним породы и не меньше брата предана Моцарту. Арии из «Волшебной флейты» и отрывки из «Дон Жуана» искрились в их маленькой квартире, прерываемые разговором и звоном бокалов, безупречно чисто и точно сопровождаемые скрипкой, фортепиано, гитарой или только свистом Тайзера.
На время короткого летнего сезона я еще должен был исполнять обязанности скрипача оркестра, но с осени просил меня уволить, так как потом собирался всецело посвятить себя работе над оперой. Капельмейстер, которого злил мой уход, напоследок третировал меня с исключительной грубостью, но Тайзер помогал мне мужественно ее парировать и высмеивать.
С этим верным товарищем я проработал всю инструментовку моей оперы, и насколько благоговейно чтил он мои мысли, настолько же беспощадно указывал на все нарушения в оркестровке. Иногда он приходил в страшную ярость и отчитывал меня, словно хамоватый дирижер, до тех пор пока я не вычеркивал и не переделывал какое-нибудь сомнительное место, в которое я был влюблен и за которое цеплялся. И всякий раз, когда я сомневался и чувствовал себя неуверенно, у него были наготове примеры. Если я, скажем, настаивал на сохранении какого-то неудавшегося места или не решался на смелый ход, он хватал партитуры и показывал мне, как это делали Моцарт или Лорцинг, и уверял, что моя нерешительность, или трусость, или мое упрямство — не что иное, как «ослиная тупость». Мы орали друг на друга, ссорились и бесились, и если это происходило в квартире Тайзера, то Бригитта внимательно прислушивалась, приносила и уносила вино и сигары, сострадательно и заботливо разглаживала не один скомканный нотный лист. Ее восхищение мною сравнялось с ее любовью к брату; я был для нее маэстро. Каждое воскресенье я должен был приходить к Тайзерам обедать, а после еды, если на небе было хоть одно голубое пятнышко, ехать с ними на трамвае за город. Мы гуляли по холмам и лесам, болтали и пели, и брат с сестрой без всяких моих просьб каждый раз опять запускали свои родные «йодли».