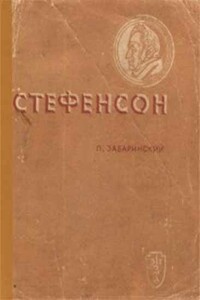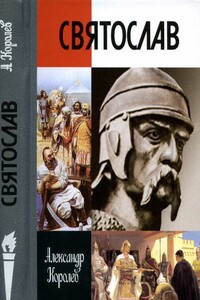Моя жизнь | страница 74
Во всяком случае я была в восторге (и мне очень польстило), когда в один дождливый день Давид Ремез, увидев, что я с кем-то остановилась на улице около тель-авивского здания Гистадрута, подошел и спросил, не хочу ли я вернуться на работу и не соглашусь ли стать секретарем «Моэцет ха-поалот» (Женского рабочего совета) Гистадрута. Это был тот самый Давид Ремез, который четыре года назад предложил нам с Моррисом работать в иерусалимском отделении «Солел-Боне». По дороге обратно в Иерусалим я приняла решение, нелегкое решение. Я понимала, что если возьму эту работу, мне придется много ездить по стране, и за ее пределами, и что нам придется искать квартиру в Тель-Авиве, что было непросто. Но - и это было куда серьезнее и труднее - и я должна была признать тот факт, что возвращение на работу означает конец моим попыткам целиком посвятить себя семье. Я еще не смела даже себе признаться в окончательном поражении, но уже поняла за эти четыре года, что мое замужество оказалось неудачей. И поступить на работу с полным рабочим днем - означало примириться с этим обстоятельством, - а это меня путало. Но, с другой стороны, твердила я себе, для всех - для Морриса, для детей, для меня - будет лучше, если я буду довольна и удовлетворена. Может, я смогу со всем справиться, все совместить: спасти то, что осталось от нашего брака, быть хорошей матерью Менахему и Сарре и жить интересной и целеустремленной жизнью, к которой я так стремилась.
Разумеется, все вышло не совсем так. Ничто не выходит точно так, как задумано. Но, честно говоря, не могу сказать, что я когда-либо пожалела об этом своем решении или сочла его неправильным. А горько я жалею о том, что хотя мы с Моррисом и остались супругами и любили друг друга до самой его смерти в моем доме в 1951 году (символично то, что я в это время была в отъезде), мне все-таки не удалось сделать наш брак удачным. Мое решение в 1928 году означало, что мы расстаемся, хотя окончательно мы расстались только десять лет спустя.
Трагедия была не в том, что Моррис меня не понимал, - напротив, он слишком хорошо меня понимал и знал, что не может ни создать меня заново, ни переделать. Я оставалась сама собой, а из-за этого у него не могло быть такой жены, которую он хотел бы иметь и в которой нуждался. И поэтому он не стал отговаривать меня от возвращения на работу, хотя и знал, что это в действительности означает.
Он навсегда остался частью моей жизни - и, уж конечно, жизни наших детей. Узы между ним и детьми никогда не слабели. Они его обожали и виделись с ним очень часто. У него было что им дать, как было что дать мне, и он оставался для них прекрасным отцом даже после того, как мы стали жить раздельно. Он читал им, покупал им книжки, часами говорил с ними о музыке, и всегда с той нежностью и теплотой, которые были для него так характерны. Он всегда был спокойным и сдержанным. Посторонним он мог казаться неудачником. Но дело в том, что он жил богатейшей внутренней жизнью, куда более богатой, чем моя, при всей моей активности и подвижности, - и это богатство он щедро делил с близкими друзьями, с семьей и, прежде всего, со своими детьми.