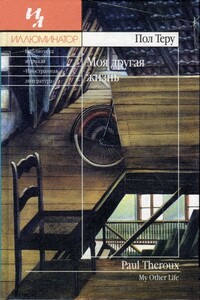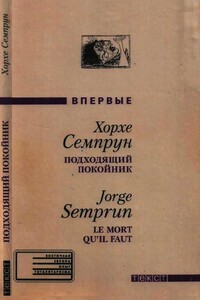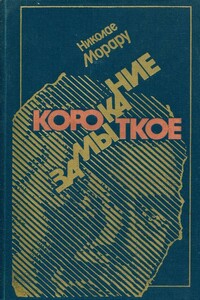Нечаев вернулся | страница 77
Марру вдруг умолк и закрыл глаза. Потом подошел к застекленной стене веранды, выходившей в общий сад. Он долго стоял молча, глядя на дом Люсьена Эрра. Наконец снова обернулся к Зильбербергу. Голос его звучал глухо.
— Я говорил, что был здесь в сорок третьем, помните? Мы тогда собрались, чтобы решить, как быть. В нашей подпольной организации состоял один человек — его военная кличка была Мирабо, — из очень бедной семьи, отчаянно смелый, которого мы подозревали в том, что он работает на гестапо. Или служит и нашим и вашим. Некоторые из нас считали, что он достоин смертного приговора, что доказательства его предательства налицо, а риск слишком велик, чтобы позволить себе роскошь быть разборчивым в средствах. В тот день, в доме Люсьена Эрра, мы приняли окончательное решение. Мы договорились оставить его в живых и какое-то время осторожно понаблюдать за ним. Потому что его подозрительное поведение могло быть истолковано и просто как безрассудная храбрость, слепая вера в свою звезду…
Марру глубоко вздохнул и продолжал:
— Кто-то предложил похитить его, поместить в надежное место и допросить… Допросить… Понимаете, что это значит? Это значит — в случае запирательства подвергнуть пытке… Мы дружно отказались. Узнать правду было необходимо, но если бы Мирабо признался в предательстве под пыткой, то правда, добытая таким способом, отравила бы наше сознание… И всю нашу борьбу… Свет этой правды ослепил бы нас настолько, что мы перестали бы видеть смысл нашей борьбы…
Марру снова вздохнул. Эли казалось, что ледяная рука стискивает ему сердце. Он догадывался, что за этим последует.
— Самым непреклонным был Мишель Лорансон. Это он убедил нас не убивать Мирабо… Через несколько недель его арестовало гестапо в квартире на улице Бленвиль… И выдал его Мирабо…
Молчание сгущалось вокруг них, становилось почти осязаемым, душным.
— И вот через тридцать лет, — продолжал Марру, будто с усилием выталкивая из гортани каждое слово, — что вы сделали с его сыном, Даниелем Лорансоном?