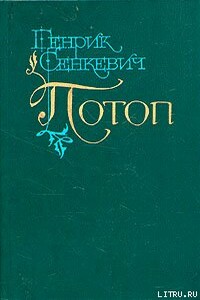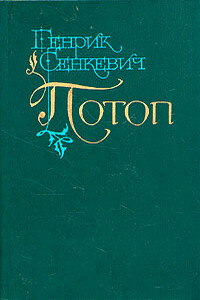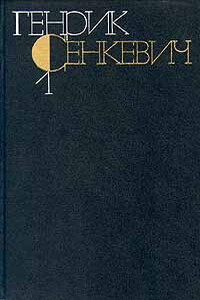Огнем и мечом. Часть 2 | страница 34
Хутор и в самом деле был неподалеку, а старый бондарь богат, так что пир закатил горою. Выпили все крепко. Заглоба же до того раззадорился, что ни в чем другим не уступал. Вскоре начались разные диковинные обряды. Старухи отвели Ксению в боковую светелку и там с нею заперлись. Пробыли они в боковушке долго, а когда вышли наконец, объявили, что девушка чиста, как лилия, как голубка. Возрадовались все, шум поднялся, крики: «На славу! На щастя!» Бабы в ладоши стали хлопать да приговаривать: «А що? Не казали?!» — а парни ногами притоптывать, и всяк поочередно пускался в пляс, держа в руке кварту, которую перед дверью светелки выпивал «на славу». Сплясал так и Заглоба, тем лишь благородство происхождения своего обозначив, что не кварту, а целый штоф осушил у двери. Потом бондарь с женою и кузнечихой повели в светелку молодого, а так как не было у Димитрия отца, поклонились пану Заглобе, чтобы тот его заступил, — Заглоба согласился и ушел с ними. В горнице на время поутихло, только солдаты, гулявшие на майдане перед хатой, горланили да вопили по-татарски и из пищалей палили. Настоящая же гульба и веселье начались, когда в горницу воротились родители. Старый бондарь на радостях облапил кузнечиху, парни подходили к бондаревой жене и, низко поклонясь, колени ее обнимали, а бабы восхваляли за то, что дочку сберегла как зеницу ока, соблюла в чистоте, как лилию, как голубку;[8] потом с нею пустился в пляс Заглоба. Сперва потоптались на месте друг перед дружкой, а потом он как ударит в ладоши, как пойдет вприсядку, и то подпрыгнет, то подковками о дощатый пол стукнет — аж щепки летели да пот в три ручья со лба катился. На них глядя, закружились и остальные: молодицы с солдатами да с парнями — кто в горнице, кто во двор вышел. Бондарь то и дело приказывал выкатывать все новые бочки. Под конец всем гуртом вывалились на майдан из хаты — там разожгли костры из щепы и сухого чертополоха, потому что уже глубокая ночь наступила, и пирушка сделалась настоящей попойкой; солдаты стреляли из пищалей и мушкетов, словно на бранном поле.
Заглоба, красный, вспотелый, нетвердо держащийся на ногах, забыл, где он и что с ним происходит; различал словно в тумане лица пирующих, но хоть убей, не мог бы сказать, что это за люди. Он помнил, что гуляет на свадьбе, — но на чьей? Ха! Наверно, Скшетуского с княжною! Эта мысль показалась ему весьма правдоподобной и в конце концов гвоздем в голове засела, наполнив такой радостью, что он завопил как безумный: «Во здравие! Возлюбим друг друга, братья! — опорожняя при том одну за другой кружки, из которых каждая была не меньше штофа. — За тебя, брат! За нашего князя! Будем все счастливы! Дай-то бог, чтобы минула година бедствий для нашей отчизны!» Тут он залился слезами и, направившись к бочке, споткнулся — и далее на каждом шагу спотыкался, ибо на земле, словно на поле боя, лежало множество недвижных тел. «Господи! — воскликнул Заглоба. — Не осталось больше истинных мужей в Речи Посполитой. Один Лащ пить умеет, да еще Заглоба, а прочие!.. О господи!» И жалобливо возвел очи к небу — и тут заметил, что небесные светила более не утыкают прочно небесную твердь наподобие золотых гвоздочков, а одни дрожат, будто стремятся выскочить из оправы, другие описывают круги, третьи казачка отплясывают друг против дружки, — чему Заглоба весьма поразился и сказал изумленной своей душе: