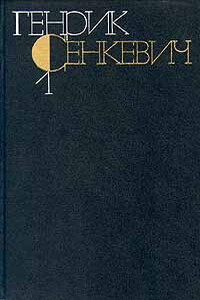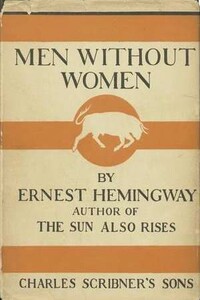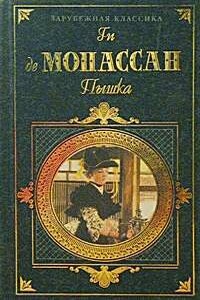Без догмата | страница 39
Анельке это, кажется, тоже доставляло удовольствие. В ее приветливости к Снятынским, в том, как она за обедом их потчевала, было как бы радушие молодой хозяйки, в первый раз принимающей дорогих гостей в своем доме.
Тетушка тоже это подметила, душа в ней взыграла, и она все время расточала Снятынским любезности. При этом я наблюдал удивительную вещь – ни за что бы этому не поверил, если бы не видел своими глазами: у Снятынской краснеют уши всякий раз, когда кто-нибудь похвалит ее мужа! Краснеть от гордости за мужа после восьми лет совместной жизни! Уж не было ли величайшей глупостью то, что я писал о польках?
Обед прошел очень весело. Одна такая супружеская чета может толкнуть на брак множество людей – каждый, глядя на них, невольно скажет себе: «Эге, если так, то женюсь и я». Я по крайней мере впервые увидал брак в таком радужном свете, а не в сером сумраке житейской прозы, будничности, более или менее скрываемого равнодушия.
Анельке, должно быть, наше будущее тоже представлялось таким светлым. Я угадывал это по ее сияющему лицу.
После обеда мы со Снятынским остались в столовой вдвоем – я знаю, что он любит после кофе выпить рюмочку-другую коньяку. Тетя и пани П. перешли в боковую гостиную, Анелька же и пани Снятынская убежали наверх за какими-то альбомами с видами Волыни. Я заговорил со Снятынским об его пьесе, за которую он был не совсем спокоен. Потом разговор зашел о былых временах, когда оба мы только пробовали взлететь на еще не окрепших крыльях. Снятынский рассказывал мне, как постепенно добился признания, как часто сомневался в себе и сейчас еще иногда сомневается, хотя он уже до известной степени выдвинулся.
– Скажи, что ты делаешь со своей славой? – спросил я.
– То есть как это – что делаю?
– Ну, носишь ее на голове, как митру, или на плечах, как золотое руно, или она стоит у тебя на письменном столе, или висит в гостиной? Я спрашиваю потому, что понятия не имею, что такое слава и что с нею делают те, кому она достается!
– Допустим, что мне она досталась. И вот что я тебе отвечу: только человек самого дешевого сорта рядится в так называемую славу, носит ее на голове, на шее, ставит на письменный стол или вешает в гостиной. Сознаюсь, вначале она льстит самолюбию, но только духовному парвеню она может заполнить жизнь и заменить все остальные виды счастья. Совершенно другое дело – сознавать, что ты творишь нечто, заслужившее у людей признание, вызывающее отклики, это может дать удовлетворение человеку, который хочет служить обществу. Ну, неужели же счастье в том, что кто-нибудь в светском салоне скажет мне с глупой миной: «Ах, вы доставили нам столько приятных минут!» – а когда я съем что-нибудь неудобоваримое, та или иная газета немедленно объявит: «Сообщаем читателям печальную новость: у нашего знаменитого Х. Х. болит живот». Неужели это может меня осчастливить? Фи, за кого ты меня принимаешь?