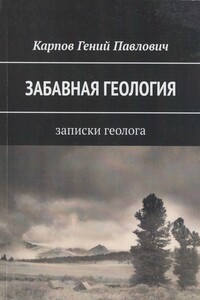Шашки наголо! | страница 15
На бомбежки и артобстрелы мы уже не стали обращать внимания, дистрофия атрофировала все наши чувства. Отец работал и ночевал на фабрике, питался в фабричной столовой, иногда и мне перепадала тарелочка жидкого, но горячего бульона. Но голод брал свое, еще бы немного, и я бы последовала за своей мамой. Как я перезимовала эту первую блокадную зиму? Не знаю. За водой ходили на Неву, черпали из проруби. Дома, пока был столярный клей, варили его и ели с блинчиками из кровавой муки с подгоревших Бадаевских складов. От такой еды начинались кровавые поносы. Тетя Вера еще что–то меняла на хлеб. На золотое кольцо можно было выменять буханку хлеба. Готовили на буржуйке в комнате. Жгли книги и мебель. А на кухне бегали огромные крысы.
Истощены мы были до неузнаваемости. Увязанную платком меня принимали за старушку …
В июле 1942 года мне с отцом предложили эвакуироваться. Смутно помню, как собирались, как нас погрузили на машины, перегружали в вагоны, переправляли через Ладогу. В Борисовой Гриве нас посадили на «тендер»[2], без вещей — вещи погрузили отдельно.
С верхней палубы нас спустили вниз, в трюм, возможно, был налет немецких самолетов, задрожали крышки люков. Там, в темноте и духоте, сидели мы, плотно прижавшись друг к другу. А сверху по палубе как горох застучали пули или осколки от бомб. Но нам было не страшно, мы были безразличны ко всему, что творилось вокруг нас. Голод был сильнее страха.
Не помню, как мы доехали. Все было как во сне. На той стороне Ладоги нам выдали талоны на питание. Кормили прямо на улице. Был горячий суп и второе. Выдали хлеб и сухой паек.
Но несмотря на предупреждение, чтобы мы ели всего понемногу, так как был возможен кровавый понос, некоторые не смогли побороть чувство голода и съедали все, что могли добыть. В поезде, в телячьих вагонах, они стонали от боли в животе и просили марганца. Начались кровавые поносы. Больных снимали с поезда чуть живых. Многие умирали, не доехав до больницы.
Приехали мы в Вологодскую область, в деревню Ягодная. Расселили по избам. Смотреть на нас сбежалось все население, вся деревня. Меня приняли за старушку и очень удивились, когда отец сказал, что мне еще шестнадцать. Жители несли нам все, что могли. Еды было много, но я не могла понять, что я ем, ощущала на вкус только хлеб.