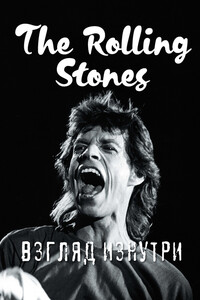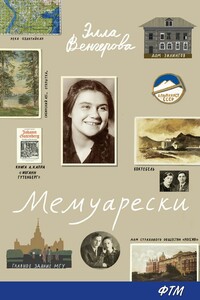Народные мастера | страница 76
«И. И. Овешков привез эти листы к себе в Загорск, где мы в 1941 году ими восхищались и любовались.
Эти листы гостили у меня некоторое время, и я их скопировала на кончике стола, как сумела. Главное — сохранить цвет, пошиб, систему наложения клеевой краски на проклеенной столярным клеем бумаге, без всякого предварительного рисунка. Это не раскраска, а живопись, притом живопись светлая, то есть без теней.
Старый художник И. И. Овешков во время войны зарыл свои сокровища где-то в саду и умер. Листочки погибли, остались только мои копии.
В 41-м году среди чудесной загорской пестроты и красоты (несмотря на войну, ведь все равно назло всему на свете башни стояли ярко-розовые, старинные храмы — умопомрачительно прекрасные) впервые увиденные картинки городецких художников были таким же чудом.
Я тогда еще задумала рано или поздно осуществить издание этой нижегородской живописи. Пусть «ремесленники» поучат нас, художников, как совсем по-иному можно распорядиться красками. Пусть все увидят добротную деревенскую живопись…
Тут все одноценно — на уровне законов современной живописи. Вешай хоть рядом с Матиссом или Пикассо — не пропадут. А лучше всего бы поглядеть на городецкие донца в Третьяковской галерее, в соседстве с иконами или поближе к передвижникам, к изображениям тех самых мужиков, которые наводнили однажды весь этот край совершенно своеобразной живописью».
14
В тридцать седьмом году Овешков снова вызвал Мазина в Москву: готовить вместе с мастерами других российских промыслов выставку в Третьяковской галерее.
У Игнатия Андреевича для выставки отобрали одиннадцать картин и несколько расписных поделок — стульчиков, игрушек. Участвовал он и в создании «городецкого портала», украшавшего вход в их зал. А кроме того, надумал еще написать большую картину и показать в ней всю свою жизнь, как это делалось в житийных иконах и лубках. Длиннющую доску разбил на восемь кадров вверху и три продолговатых внизу: в первом кадре — он совсем маленький играет возле стола с собачкой, во втором — помогает дедушке на пасеке, в третьем — учится красить донца, в четвертом — в школе у священника… Последовательно показал все самое важное в своей жизни, даже продажу донец и рыбную ловлю, поездки на пароходе и первого ребенка, и всю семью в четырнадцать человек за длинным праздничным столом под богатой красной скатертью. А в последней картине-кадре — сцена его возвращения из какой-то поездки: красивый, нарядный, в алой рубахе и лаковом картузе, с чемоданом в руках, входит он в родную калитку, а навстречу катятся его дети, мал мала меньше, и жена — все рады без памяти… Красок в этой картине много, она, как обычно у Мазина, очень нарядна, разубрана цветами и орнаментами, а отойдешь — преобладают золотистые и сиренево-голубоватые — цвета удивительно ясные и добрые, и кажется, что это голос доброго человека в такие цвета переплавился и рассказывает, какая захватывающе интересная, какая красивая и счастливая жизнь у него получилась.