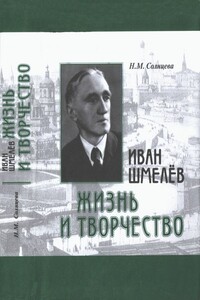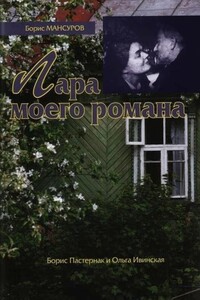Народные мастера | страница 50
Мужики улыбаются, но сомнений не выказывают: знают, если не мешать, дальше рассказ еще интересней будет. Главное, чтоб Игнатий Андреевич сам распалился да бороду начал подергивать, тогда уж только слушай — больше таких захватывающих историй нигде не услышишь…
Раз вечером сидел на крыльце, разбирал беличий волос для кистей. Подошли мужики, и он про Москву стал рассказывать, какие там необыкновенные порядки, какие есть странные магазины и особенно театры: будто бы собаки и лошади в этих театрах говорят по-человечьи, а некие заморские женщины летают по воздуху навроде бабочек…
Даже незлобивый Федор Краснояров не выдержал:
— Когда это ты в Москве-то был?
— Года три назад…
Все же знали, что он в Москве не бывал, дальше Нижнего вообще никуда не ездил…
— Я ведь служил в Москве, — сказал Краснояров. — В театр два раза ходил, а про такое не слыхивал…
Игнатий Андреевич засопел, отпустил бороду, чем-то очень заинтересовался в беличьих хвостиках.
Он расстраивался и обижался как мальчишка, когда ему не верили, что необыкновенного на белом свете еще полным-полно.
И очень любил, когда его слушали затаив дыхание, с восторгом и удивлением — радовался этому страшно.
— Так и ворожил он своей дудочкой… — Это Мазин уже рассказывал про какого-то очень красивого парня, который так дивно играл на пастушеской дудочке, что девки шли за ним куда хочешь…
«Красивое» — было главным словом в речах Игнатия Андреевича.
— Я его нарисую. Ох и роспись сделаю — лучше не было…
Мужики смеялись.
Похвастаться Мазин тоже любил.
В их деревне Курцево, как и во всех ближайших деревнях, большинство крестьян расписывали, а по-здешнему «красили», прялочные донца, хозяйственную утварь, мастерили детскую мебель, игрушки — и тоже расписывали. Лучше всех это делали Василий и Игнатий Лебедевы, Федор Краснояров, Александр Сундуков, Егор Крюков. Но Игнатий Андреевич Мазин сам себя все же наперед ставил. Без стеснений.
— Лучше всех сделаю, вот увидите…
6
Курцево, Косково, Репино, Савино, Охлебаиха — деревни эти тянутся вдоль извилистой и чистой как слеза Узолы в пятнадцати-двадцати километрах выше Городца. Места очень красивые. Правый берег высокий, овражистый, и все деревни на нем. От любого дома глянешь — далеко-далеко за реку видно: все холмистые темные леса в редких проплешинах, в которых колосятся овсы и блекло-голубыми лужицами доцветает волнистый лен. У самой Узолы — сплошные тальники. Стволы у тала голые, тонкие, ветерком потянет, они и давай друг об дружку негромко постукивать, вечерами далеко их слышно. Комарья там вечерами видимо-невидимо. Кажется, остановись у розовой от заката воды минуты на три — всего тебя сожрут. А наверху ничего. Наверху суше, места открытые, сосняки и березы возле деревень, а за огородами и ладными банями, которых здесь у иных хозяев даже по две, за ними поля уже побольше — хлебные. Избы в деревнях тоже все ладные, высокие, с большими окнами, с богатой резьбой, весело раскрашенные. В Курцеве, на березовом мыске, подступившем к Узоле, белокаменная церковь сохранилась, раньше Ильинской именовали.