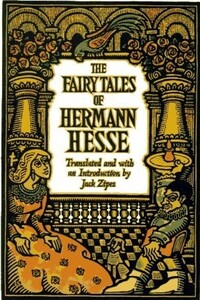Леопард | страница 67
Дон Фабрицио всегда любил дона Чиччьо, но то было чувство, порожденное состраданием, какое вызывает человек, который в молодости посвятил себя искусству, а в преклонных годах, убедившись в отсутствии таланта, продолжает все ту же деятельность опускаясь все ниже, спрятав в глубь кармана свои поблекшие мечты. Сострадание вызывала и его исполненная достоинства бедность. Теперь же он испытывал нечто похожее на восхищение, и чей-то голое, подымаясь из глубин его высокомерного сознания, спрашивал: не случилось ли так, что дон Чиччьо повел себя благороднее князя Салина? И не совершили ли Седара, все эти Седара, начиная с того маленького, который насиловал арифметику в Доннафугате, кончая теми, что покрупнее и находились в Палермо и Турине, не совершили ли они преступления, удушив совесть таких людей? Тогда дон Фабрицио не мог этого знать, но добрая доля равнодушия и примиренчества, за которые в последующие десятилетия клеймили людей итальянского Юга, истоком своим имела именно это нелепое уничтожение первого проявления свободы, доселе никогда этими людьми не виданной.
Дон Чиччьо отвел душу. Теперь столь редкое и подлинное воплощение «сурового благородства» уступило у него место другой, гораздо более распространенной и не менее естественной разновидности снобизма. Ведь Тумео принадлежал к зоологической породе «пассивных снобов», которые особенно теперь подвергаются несправедливому осуждению. Конечно, в Сицилии 1860 года слово «сноб» было неведомо; но, подобно тому как и до Коха существовали туберкулезные больные, и в то допотопное время жили люди, для которых привычка подчиняться и подражать тем, кого они полагали стоящими выше себя в общественном отношении, и особенно боязнь причинить им какое-либо огорчение стали высшим законом жизни; сноб на самом деле прямая противоположность завистнику. Тогда снобы представали под различными именами: их называли людьми «преданными», «глубоко привязанными», «верными». Жили они счастливо, потому что мимолетной улыбки на Лице аристократа хватало, чтоб наполнить солнцем их день, а недостатка в этих живительных милостях не было, они расточались чаще, нежели сегодня, хотя бы по той причине, что само появление этих людей сопровождалось уже упомянутыми нами ласкательными прилагательными.
Итак, но причине своей снобистской сердечности дон Чиччьо опасался, не огорчил ли он дона Фабрицио; это вынуждало его к поспешным поискам средства, которое могло бы разогнать тучи, скопившиеся, как он полагал, по его вине над олимпийским челом князя; наиболее спасительным средством в этот момент было предложение снова заняться охотой, что и было сделано. Несколько несчастных бекасов и еще один кролик, застигнутые врасплох во время полуденного сна, пади под выстрелами, которые в тот день отличались особенной точностью и беспощадностью, потому что как Салина, так и Тумео с удовольствием отождествляли несчастных животных с доном Калоджеро Седара. Однако ни оглушительная пальба, ни клочья шерсти и перьев, которые после выстрелов взлетали, сверкая на солнце, сегодня не могли успокоить князя; по мере того, как проходили часы и близилось возвращение в Доннафугату, чувство озабоченности, досады и унижения от предстоящего и неизбежного разговора с плебеем мэром все более угнетало князя; ему не помогло даже и то, что он назвал двух бекасов и кролика «доном Калоджеро»; хоть он и решил проглотить эту отвратительную жабу, но все же чувствовал потребность подучить о противнике более полные сведения, или, точней, позондировать, как откликнется общественное мнение на шаг, который он намеревался предпринять. Вот почему дон Чиччьо вторично в этот день был застигнут врасплох обращенным к нему в упор вопросом: «Дон Чиччьо, послушайте-ка меня, вы знаете стольких людей в деревне, скажите, что же на самом деле думают в Доннафугате о доне Калоджеро?»