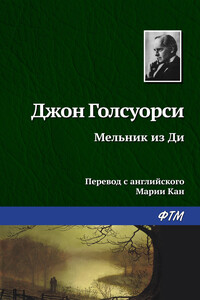Леопард | страница 107
Я сказал — сочувствие, но не сказал — участие. За эти шесть месяцев, с тех пор как ваш Гарибальди ступил на землю Марсалы, слишком многое было сделано без нашего совета, чтоб теперь можно было требовать от представителя старого правящего класса продолжения и завершения начатого. Я не хочу вступать в спор по поводу того, дурно или хорошо уже сделанное; лично я считаю, что многое было сделано скверно, но сейчас я хочу сказать вам другое, что вы поймете и сами, проживя среди нас год. Для Сицилии неважно, плохо ли, хорошо ли то, что делается: грех, которого мы, сицилийцы, никогда не прощаем, — это, попросту говоря, грех «деланья». Мы стары, Шевалье, мы очень стары. Вот уж по крайней мере двадцать пять веков, как мы несем на своих плечах бремя великолепных и чуждых нам по духу цивилизаций, которые привнесены извне; ни одна из них не пошла от нашей завязи, ни одной из них мы не положили начала; мы люди такой же белой кожи, как и вы, Шевалье, такой же белой, как у королевы Англии, и все же вот уж две с половиной тысячи лет мы являемся колонией. Я говорю это не для того, чтоб жаловаться: это наша вина. Но все равно мы устали, мы опустошены.
Теперь был встревожен Шевалье.
— В любом случае сейчас с этим кончено; теперь Сицилия — уже не покоренная земля, а свободная часть свободного государства.
— Шевалье, это благое, но запоздалое намерение; впрочем, я уже сказал вам, что большая часть вины ложится на нас самих. Вы говорили мне здесь о молодой Сицилии, показывающей свое лицо на удивление современному миру; что до меня, то мне скорее представляется столетняя старуха, которую на тележке тащат по Всемирной выставке в Лондоне, и ничего-то она не понимает, и плевать ей на все шеффилдские сталелитейни и на манчестерские ткацкие фабрики, а хочется ей одного — вернуться к своей полудреме на пропитанных слюной подушках и к ночному горшку под кроватью.
Он еще говорил спокойно, но рука, которая лежала на куполе св. Петра, была крепко сжата, — поздней маленький крестик, венчавший купол, оказался сломанным.
— Сон, дорогой Шевалье, сон — вот к чему стремятся сицилийцы, и они всегда будут ненавидеть тех, кто захочет их разбудить, хотя бы для того, чтобы вручить им самые прекрасные дары; меж нами будь сказано, я очень сомневаюсь, чтоб в багаже нового королевства было припасено много подарков для нас. Все, и в том числе наиболее страстные проявления сицилийского характера, — лишь отражение этого сна; наша чувственность — стремление к забвению; наши перестрелки и поножовщина — жажда смерти; стремлением к сладострастной неподвижности, то есть опять к смерти, является наша лень, наши сладкие шербеты с корицей; наш созерцательный вид идет от стремления ничтожеств постичь тайны нирваны. Вот отчего преуспевали у нас определенного типа лица — те, кто разбужен лишь наполовину; отсюда и знаменитое вековое отставание сицилийского искусства и научной мысли: новизна привлекает нас, лишь когда она уже похоронена и не в состоянии породить ничего живого; отсюда невероятное количество всяких мифов, к которым можно было бы относиться с почтением, если бы они на самом деле были древними, но ведь это лишь мрачная попытка окунуться в прошлое, которое влечет нас к себе только потому, что мертво.