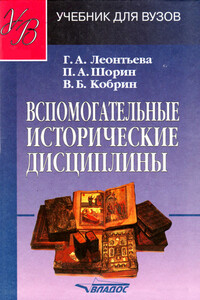Иван Грозный | страница 73
Так в чем же дело?
Так был ли все же какой-то смысл, и если был, то какой, во всей этой вакханалии казней, убийств, во всех этих странных, часто противоречивых извивах правительственной политики, во внезапных возвышениях и столь же внезапных падениях временщиков? Речь, разумеется, не идет о поисках оправданий для опричнины. Каковы бы ни были прогрессивные последствия опричнины (если были), все равно у историка нет морального права прощать убийство десятков тысяч ни в чем не повинных людей, амнистировать зверство. Выбросив из истории моральную оценку, мы окажемся сторонниками давно осужденного, но все еще, увы, живого тезиса: “Цель оправдывает средства”. Но такая позиция не только морально уязвима, она антинаучна, ибо, как в физике, измерение подчас меняет свойства объекта, так и в жизни цель меняется под воздействием средств. Нельзя достичь высокой цели грязными средствами.
Вопрос о значении и роли опричнины давно пытается решить наша наука. Долгое время спор шел исключительно в моральной плоскости (чрезвычайно важной, но не единственной, определяющей решение проблемы). Только казни, кровопролитие практически без анализа их причин занимали дворянских историков - и князя Михаила Михайловича Щербатова, жившего во времена Екатерины II, и великого ученого Николая Михайловича Карамзина.
Карамзина иногда считают основателем концепции “двух Иванов” - мудрого государственного мужа в первой половине своего царствования и тирана - во второй. Пожалуй, для широкой публики именно Карамзин сделал эту концепцию привычной. Однако родилась она задолго до XIX века. У ее истоков стоял еще князь Курбский. В своем антигрозненском памфлете “История о великом князе Московском” он задается вопросом, “откуды сия приключишася так прежде доброму и нарочитому царю, многажды за отечество и о здравии своем не радяшу... и прежде от всех добру славу имущему?”. И первое свое послание царю Ивану Курбский адресует “царю, от бога препрославленному, паче же во православии пресветлуявившуся, ныне же - грех ради наших - сопротивным (противоположным. - В. К.) обретеся”. Такая позиция Курбского понятна: как бы иначе он мог объяснить своим читателям, почему он столько лет верой и. правдой служил такому извергу и тирану?
Представление о внезапном изменении характера царя Ивана характерно и для исторических сочинений, появившихся в начале XVII века, в первые годы правления династии Романовых. Дело в том, что первый царь этой династи - Михаил Федорович и его окружение оказались в нелегкой ситуации. Только по жене Ивана Грозного - царице Анастасии (родной сестре деда царя Михаила) они имели право на престол. Однако зверства опричнины были у всех в памяти. Буквально все авторы этого времени ищут корни трагических событий начала XVII века,