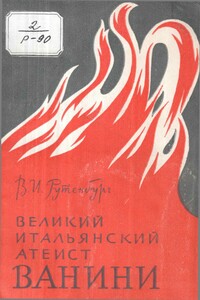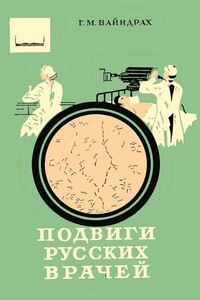Иван Грозный | страница 65
Одно несомненно: типографы ушли не по своей воле, а под каким-то сильным давлением. Бегство в Литву не имело ничего общего с теми мотивами, которыми руководился Курбский и другие изменники. Сам Иван Федоров говорит о врагах внутренних и громко заявляет о своем патриотизме. В Послесловии к львовскому изданию "Апостола" (1574 г.) он говорит, что бежать его заставили "превеликого ради озлобления, часто случающегося нам, не от самого государя, но от многих начальник и священноначальник и учитель, которые на нас, зависти ради, многие ереси умышляли, хотячи благое дело в зло превратити и божие дело в конец погубити, якоже обычай есть злонравных и ненаученых и неискусных в разуме человек, ниже духовного разума исполнены бывше, по туне и всуе слово зло пронесоша. Такова бо есть зависть и ненависть, сама себе наветующе, не разумеет, како ходит и на чем утверждается; сия убо от нас от земля и отчества и от рода нашего изна в и в ины страны незнаемы пресели".
Мы улавливаем в этих искренних проникновенных словах личную профессиональную трагедию, мы слышим горячий протест гуманистически просвещенного ученого против обскурантов, ставящих преграды "божественному" искусству печатания, восстающих в ослеплении своем против разума. Выражения, примененные здесь, выявляют в Иване Федорове гуманиста, типичного представителя просветительного движения, проходившего по всей Европе XVI века; московский печатник выступает перед нами в качестве единомышленника и ровни венецианских Альдо Мануччи и парижских Этьенов, одновременно ученых, технических предпринимателей и пропагандистов, настоящих сынов нового промышленного века, в котором типографское дело было одним из самых характерных явлений.
Идеалистическая форма протеста не мешает гуманисту отметить совершенно конкретно врагов-гонителей типографского дела, сплотившихся в реакционный блок. Нам не трудно расшифровать его термины: под "начальниками" разгадать аристократию, князей и старых бояр, боявшихся усиления средних классов, дворянства и торговопромышленников и потому противившихся их просвещению; под "священноначальниками" – высшее духовенство, которое боялось проникновения в светскую среду ересей и, в результате распространения "лжеучений", подрыва своего авторитета; под "учителями" – духовенство низшее – чернецов, монахов, кормившихся от переписки книг, непосредственно задетых убийственной для них конкуренцией общедоступных печатных изданий.