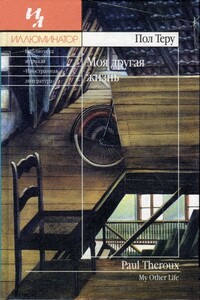Остров женщин | страница 44
Слово «папа» прозвучало словно выстрел стартового пистолета. Насколько я помню, Фернандито первым произнес его при всех. Само по себе оно уже приводило в смятение, будто жило собственной жизнью, — даже слово «мама» не обладало подобными качествами. Оно прогремело в столовой, как летняя гроза, когда в лиловом небе сверкают молнии и грохочет гром, но тучи не разрешаются ни дождем, ни градом. Оно пронеслось, как обезумевший птенец, который случайно залетел в дом и теперь бьется о стены, окна и двери, напуганный и пугающий. Меня, например, испугало, что в слове «папа» совмещались нежность и строгость, которых в слове «мама» не было, хотя в нем было много всего другого, поскольку мы произносили его каждый день. От этой нежности мне стало не по себе, я не представляла, что делать с ней и со словом вообще, прилипшим, как бумажка от карамели. Даже в виде четырех обычных букв, подумала я, оно служит символом, возвещающим, что отступление невозможно и нам придется идти, а может, и бежать вперед, страдая от последствий, которые мы не в силах предотвратить. А еще я подумала, что по поводу слова «папа» и летнего приезда отца между мамой и тетей Лусией должно было существовать соглашение, заключенное по всем правилам, с пунктами и подпунктами. В противном случае они не сажали бы Фернандито вместе с нами за стол и не называли его взрослым именем Фернандо, если в течение семи лет они этого не делали. Получалось, будто он посвященный, но он не был посвященным. Просто Фернандито, возможно сам того не понимая, сказал главное: настоящий отец, сколько бы лет и какое бы расстояние ни отделяли его от семьи, никогда не будет для этой семьи обычным гостем. А поскольку мама всегда признавала этого человека своим мужем и по закону он действительно был таковым, то его присутствие или отсутствие являлось определяющим для восприятия того, что мы — семья.
Виолета с такой энергией ухватилась за этого с неба свалившегося «папу», за возможность открыто говорить о нем, внезапно дарованную тетей Лусией в день ее приезда, что во время наших ночных разговоров, продолжавшихся всю осень, до самого Рождества, постоянно удивляла меня и ставила в тупик.
«Если теперь нет причин, чтобы не говорить о папе, и мы почти все время о нем говорим, хотя раньше я даже не подозревала о его существовании, то я не понимаю, почему он не живет с нами, почему не возвращается, ведь он уже оставил свои дела. Мне он говорил, что хочет вернуться». Примерно так обычно начинала Виолета, а я обычно отвечала примерно так: «Хочешь, чтобы я тебе сказала, почему? Потому что он похож на флюгер, но главное — он от всего устает, да, устает. И совершенно ни к чему было впутывать тебя во все это. Представь, что завтра мама возьмет и напишет ему: „Дорогой Фернандо, мне очень хотелось бы, чтобы ты вернулся и жил с нами. Обнимаю и т. д.“. Как ты думаешь, он вернется?». «Думаю, вернется». «Так вот, чтоб ты знала: он не вернется, потому что здесь ему скучно, он устает, и у него начинается зуд: нужно уезжать, нужно уезжать, нужно уезжать. В конце концов он забирает тебя и увозит в Южную Америку, и ты сидишь там, дурочка бестолковая, и хоть обревись, а он ловит и ловит себе рыбу в Тихом океане…» «Ну и что, зато географию я знаю лучше тебя, и Куба находится в Карибском море, а ни в каком не в Тихом океане!..»