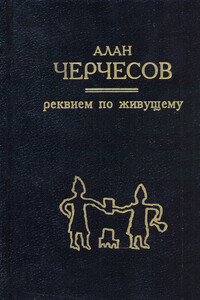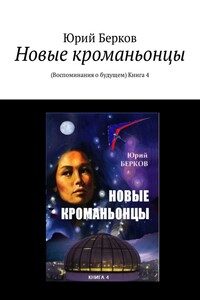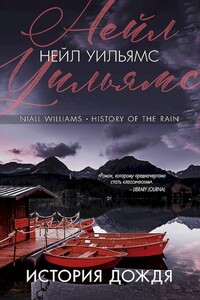Вилла Бель-Летра | страница 4
Наверное, вовсе не так. Наплевать: главное для тебя сейчас — это то, что убийца как на ладони).
Убийца снова как на ладони и уже держит в руках несвежий ворох листов. Ему хочется пить, но ты не склонен позволять своему персонажу отвлекаться на мелочи. Выхода нет; осознав это, он начинает читать. Ты следишь за ним. Теперь — строчка за строчкой:
«Просвещенная старушка-Европа обнаружила удивительную близорукость, когда упорно отказывалась признать отпечатки пальцев важнейшей уликой, по которой можно определить личность преступника с погрешностью, близкой к нулю. Между тем на Востоке, не обремененном судебной казуистикой и вечными сомнениями в очевидном, испокон веков было принято вместо подписи использовать под текстом заключаемого договора узор собственной кожи с перста. Возможно, оттого, что он более соответствовал природе замысловатых иероглифов, а может, и потому, что куда полнее воплощал идею личного следа, нежели казенная буква или трактующий ее, всяк по-своему (да к тому же подверженный соблазну подделок), чернильный росчерк пера.
Как бы то ни было, на рубеже XIX–XX веков в криминалистике развернулась нешуточная борьба между так называемым бертильонажем и дактилоскопией, делающей первые шаги к поиску злоумышленников — а заодно и к тому, что можно было бы, в пику антропометрии, именовать антропологической семиотикой. Альфонс Бертильон обессмертил себя в истории тем, что, работая писарем в полицейской префектуре Парижа, первым сподобился фиксировать не только рост, вес или цвет волос задержанных преступников, но также и размеры отдельных частей их тела, как то: длину рук и ног, туловища, головы, стоп, пальцев, носа, шеи и даже ушных раковин. Он отказался довольствоваться грубыми и приблизительными — на глаз — портретными характеристиками, невольно подчеркнув тем самым мысль об исчерпанности лица как главного отличительного признака индивида.
Лицо и вправду дало слабину: его можно было упрятать под маской, неузнаваемо искривить гримасой или покрыть толстым слоем грима; иными словами, „поменять“ на другое. Но и это еще полбеды: лицо могло быть изуродовано ножом, колотой раной от шила (в уголовном мире дело не редкое), обожжено пожаром или сожжено выплеснутой в него кислотой. Наконец, оно могло просто состариться, а о том, как горазда старость менять внешность людей, не стоит и говорить. Если сюда добавить вполне уже тогда ощутительные признаки кризиса гуманистической традиции как таковой, то подобная скомпрометированность человеческого лица покажется и вовсе закономерной…»