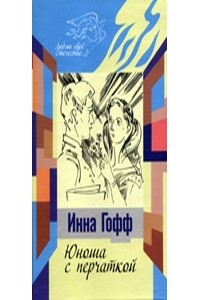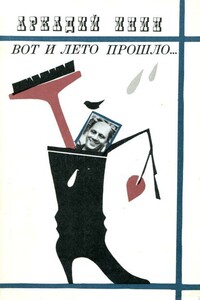Рассказы-путешествия | страница 67
Не лишне тут заметить, что отец писателя отпустил на волю всех дворовых людей, оставив только музыкантов, которых, впрочем, вскоре отпустил тоже. Он уничтожил барщину и заменил ее умеренным оброком. За все работы была положена условленная плата. Не всем это было по душе. И однажды ночью, когда Лажечниковы находились в Коломне, они были разбужены страшным стуком.
Во дворе стояли три тройки и при них были солдаты. В ту ночь были взяты и увезены хозяин дома, священник – автор доноса, как выяснилось позднее, – и гувернер француз Болье. Об этом французе писатель Лажечников расскажет в дальнейшем: «вспомнил… и доброго француза-гувернера с длинною косою за плечами, которую вместе с головою своей вынес он из-под гильотины»…
Доставленный в Петербург на казенной тройке, Лажечников-отец был посажен в Петропавловскую крепость. В доносе на него говорилось «О разрушении основ и якобинце, дальнейшее пребывание которого в Коломне грозит отечеству неотразимыми несчастиями»…
Именно этого француза-якобинца с нежностью вспоминает писатель в момент обостренного патриотизма – в дни взятия французами Москвы.
Романтический юноша, бежавший с гусарами на войну против родительской воли – ночью, с балкона, по веткам старой ели, – Лажечников дошел до Парижа и, отличившись при взятии его, был награжден орденом «За храбрость». Блестящая военная карьера, открывшаяся ему, адъютанту графа Остермана-Толстого, была отвергнута Лажечниковым. Придворным балам он предпочел службу в министерстве просвещения. Литературный труд в уединении старой усадьбы, окруженной тенистым парком… В этой усадьбе он провел свои лучшие годы, ребенком научился любить родину, юношей встретил горькую весть о том, что Москва отдана французам.
Отсюда, с этого холма, видел юный Лажечников багрово-черное зарево на северо-западе – зарево московских пожаров. Отсвет его зыбко отражался в окнах верхнего этажа – враг уже занял Бронницы. От обычного заката это зарево отличалось тем, что свет не спускался к земле, а поднимался от нее, озарял ночные облака беглым малиново-черным огнем. Огонь этот словно двигался по небу вместе с облаками, «…и всем нам казалось, что горит наше родное пепелище. Несколько дней сряду, каждый вечер, Москва развертывала для нас эту огненную хоругвь. При свете ее сельские жители собирались толпою перед господским домом или перед церковью, молились и вздыхали… Никто не помышлял о покорности неприятелю, о том, чтобы оставаться в своих домах, бить ему челом. Ожидали его только с тем, чтобы в виду его спалить свои жилища. Топоры и косы приберегали на случай под рукою…»