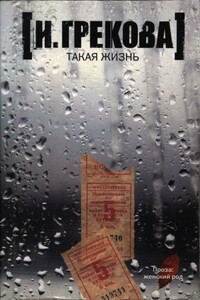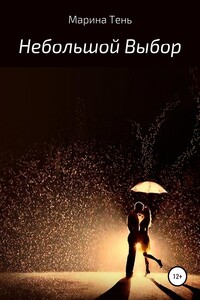Свежо предание | страница 7
— Я просто забыла, — говорила Вера смеясь.
— Что забыла?
— Что есть Анна Каренина. Что есть Константин Левин.
— Константин, да еще Исаакович! Хорошенькая комбинация! Ты подумала, как его будут звать, когда он вырастет?
— Нет, не подумала, — легкомысленно отвечала Вера. — Может быть, когда он вырастет, никаких отчеств уже не будет. А теперь его вообще зовут Тань-Тин. Как китайца. Правда, хорошо?
— Пустякинишна! — гремел Исаак. — Вот уж подлинно Пустякинишна! Кстати, где же этот парадокс? Я ведь его еще не видел.
— Лежит на балконе, голубой от счастья.
— Почему голубой?
— Посмотри сам.
Они вышли на балкон. И точно, в бельевой корзине лежал Тань-Тин, голубой от счастья. Он был пьян, мертвецки пьян свежим прохладным воздухом, он спал отчаянно, страстно, восторженно, с тонкими прозрачными голубыми веками, с голубыми жилками на беленьких висках.
— Константин Исаакович, — вдруг нежно сказал Изя. — Нелепость и сын нелепости.
— Так-то лучше, — одобрила Вера. — Ну, а теперь возьми меня в руки.
Он взял ее в руки, и они смирно стояли у бельевой корзины, внимательно глядя, как трудился Тань-Тин над своим вдохновенным сном. Они без слов думали о том мире, в котором он будет жить, где вообще не будет паспортов, а может быть, даже и отчеств, и где у маленького Тань-Тина никто не спросит: еврей он или нет и почему он Исаакович.
День, когда в сознании маленького Тань-Тина впервые зажегся радужный зайчик, был еще тяжелым днем голодного двадцатого года. Но ничего тяжелого не запомнил Тань-Тин. Для него все было радостью. Как жадно кусал он маленькими зубами ломоть черного, плохо пропеченного хлеба, посыпанный грубой солью! Одни солинки были серые, круглые, как обкатанные шарики, другие — серебряно-белые, искорками. Он видел эти крупинки близко-близко, они казались ему интересными, как кубики. От зубов на хлебе оставались ровные, круглые дужки. Каждая дужка — словно цветок. Он кусал и играл, ел и играл и смеялся от радости.
В углу была кафельная печка с гладкими белыми изразцами, и на каждом изразце ярко-синим, страшно-синим была нарисована своя картинка. На одной — китаец-рыболов в шляпе домиком опускал в синюю воду тонкую, красиво изогнутую удочку. Сколько раз, глядя на эту картинку, Тань-Тин ждал и боялся, что китаец вдруг вытянет синюю рыбку! На другой — синий кот, подняв лапу, неподвижно ловил синюю мышь, и Тань-Тин тоже сладко боялся: а вдруг поймает? Он больше любил те изразцы, где никто никого не ловил, а просто были синие цветы, синие часы, синие будочки. И все-таки его что-то тянуло к тем, страшным.