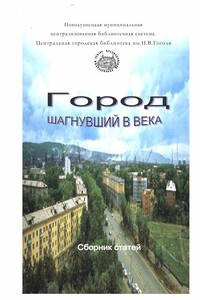Воспоминания крестьян-толстовцев (1910-1930-е годы) | страница 7
- Да, Евангелие говорит одно, а жизнь другое. Приходится делать как все, - ответил он мне.
Я, конечно, не пустился в доказательства и замолчал, и он больше ничего не сказал и лег спать, а наутро отправился со всеми рекрутами. Мы простились с ним. Он был ранен на войне, и потом и убит, и совсем не осталось от него и до сего времени нет никаких известий, хотя я очень стараюсь отыскать его следы. Шла война, бессмысленно и жестоко пожирали все новые и новые жертвы. Дошла очередь и до меня. И вот пришел я вместе со всеми новобранцами в воинское присутствие. Надо раздеваться догола и идти на осмотр врачей и военных. Мне было очень противно отдаться бессмысленной волне и плыть по течению со всеми в омут человеческой бойни.
Но что надо делать? Что говорить? Я ни от кого не слыхал и сам не решался предпринять что-то. Многие уже побыли, выходят, одеваются, а я сижу, одевшись, и не знаю что делать. Твердого ничего нет, но очень противно подчиниться. Некоторые, те, что оделись, спрашивают жандарма; можно выйти на улицу?
- Нельзя! - ответил жандарм, и, как только он сказал это слово "нельзя", у меня явилось твердое решение, что раздеваться не буду и никуда не пойду, пусть что хотят со мной делают, но сам не разденусь и не пойду.
В это время, со списком в руках, вышел директор завода и сказал, что всех нас оставляют работать на заводе, жандарм отошел от двери, и все вышли на улицу. Я стал по-прежнему с юношеским задором работать на заводе токарем. Пыл-горение к механическим работам у меня остался. Через некоторое время меня перевели на новый станок, на котором исключительно работали снаряды. В душе у меня сделался мрак, сознание стало смутно шевелиться о ненужности этого дела, связанного с кровью, даже моя любознательность не взяла верх над нравственным сознанием, и мне очень противно стало работать слесарем и токарем. Я стал искать всяких причин, чтобы не делать снарядов. Ничего никому не говоря, пошел в больницу и попросился, чтобы положили. Удалось. С месяц я пролежал в больнице, а после больницы пошел домой самовольно, где провел все полевые работы, сенокос, и лишь после трехмесячного пребывания дома в сентябре пришел на завод.
Мастер встретил меня очень сдержанно, хотя весь горел гневом на меня. К счастью, он только лишил меня токарного станка и поставил в кузницу. Я очень охотно взялся за эту работу, но вся беда была в том, что мастер давал такую работу, которая имела самые низкие расценки. Я прилагал все усилия, терпение, уменье, не считался ни с чем. Но за месяц тяжелой работы я получил только на харчи. Я думал, что гнев мастера пройдет и всё пойдет по-старому, но ошибался. На второй месяц я заработал еще меньше, и мы с мастером по-прежнему молчали: он с гневом на меня, я с обидой на него. Получив получку в субботу, я тут же направился в цеховую контору и сказал мастеру тихо и спокойно, что с таким заработком я не только не могу прокормить мать, но и самому на харчи не хватит. Он блеснул на меня гневно злорадными глазами и сказал: - Что же, если тебе плохо, подавай на расчет, - а сам опять уткнулся носом в бумаги, лежащие перед ним. Я, ничего не говоря, собрал весь инструмент и сдал в инструменталку, а сам пошел домой. Дома всё рассказал матери. Мать моя всем своим существом верила моей искренности и считала, что я плохо не поступлю.