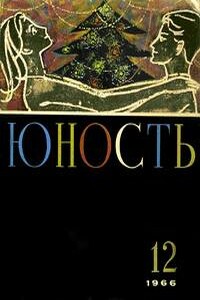Заметки о Ленине | страница 37
С этой точки зрения все спорные вопросы в полемике с меньшевиками, коренившиеся в различной оценке характера русской революции 1905 и 1906 г.г. и в различной оценке ее классовых сил, были решены против меньшевистской концепции революции. Так решились: и вопрос об отношении к либеральной буржуазии, и вопрос о роли Советов, как зародыша революционной власти, и вопрос о захвате помещичьих земель, и программа национализации, и вопрос о вооруженном восстании и технической подготовке к нему, и, наконец, вопрос о социально-классовой оценке партии меньшевиков. Так как революция 1905–1906 г.г. победила только в 1917 г., то правильная тактическая линия Ленина не могла целиком и полностью найти себе подтверждения и проверки как раз на протяжении той революции, в ходе которой создались основы большевистской тактики. Поэтому-то гениальность ленинского прогноза не могла быть оценена по достоинству в первой революции, а позиция меньшевиков представлялась тогда не в такой степени предательской и глупой, какой она выглядит в перспективе 1917 г.
В 1905–1906 г.г. спор шел о том, какая тактика вернее всего приводит к завершению буржуазно-демократического переворота при данном соотношении классовых сил, но вопрос вовсе не стоял так: какая тактика лучше всего соответствует революции, идущей к краху? В программе дня была победа революции, а не ее крах. Меньшевистская же тактика была целесообразной лишь в том случае, если бы провал революции был программной задачей для этой фракции.
Эта гениальная оценка классовых сил нашей революции, сделанная Лениным, не исключала ряда ошибок в частностях. Например, в 1902–1903 г.г. тов. Ленин отдал дань марксистскому доктринерству в своей аграрной программе «с отрезками». В 1906 г. он ошибся в оценке размеров революционного подъема, откуда проистекла и ошибка с бойкотом Думы, и ошибка с линией на восстание в 1906 г. Все мы, большевики, участники тогдашней борьбы с ее автоматизмом в развертывании революционных процессов, с тогдашними перспективами 1906 года, знаем хорошо, что не сделать последних ошибок можно было бы прямо чудом. А если бы даже эти ошибки и не были сделаны, то сманеврировать на новую тактику, не отрываясь от своих масс, мы вряд ли бы смогли.
Так самоопределил себя гением Ленина авангард наш пролетарский в первую русскую революцию. Тактическая линия, намеченная Лениным, лишь переводила на марксистский язык и на язык политической борьбы то, что несли рабочие массы в неотесанных кирпичах своего элементарного понимания вещей, что отвечало их массовым настроениям, что улавливал их классовый инстинкт. Большевистский лозунг — поддерживать кадетов, но только дубиной, — соответствовал стихийному недоверию рабочих масс к купеческо-помещичьему либерализму. Лозунг свержения самодержавия и вооруженного восстания соответствовал огромному озлоблению масс против царизма, помещиков, фабрикантов и решению бороться до конца. Массы не шутят в революции, и, если они вступили в движение, они идут, как говорится, до точки, до предела. С этой точки зрения интеллигентскими умничаниями и марксистскими «выкрутасами» являлась позиция меньшевиков по вопросу о неучастии во власти со стороны победившего рабочего класса. И, наоборот, только лозунг революционной власти, построенной на диктатуре пролетариата и крестьянства, соответствовал силе натиска рабочих на самодержавие и их решимости довести дело революции до конца. Наконец, и отношение большевиков к крестьянству соответствовало российским условиям. В то время как меньшевики пытались пересадить на русскую почву то вековое недоверие потомственного почетного пролетариата Запада к своему крестьянству, у нас в России, где связь рабочих с деревней никогда не прерывалась, лишь большевистские отношения к крестьянству соответствовали реальному взаимоотношению между нашим рабочим и нашей деревней.