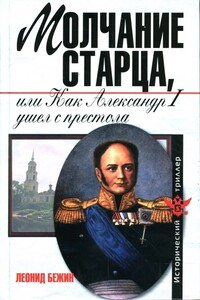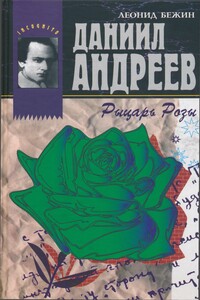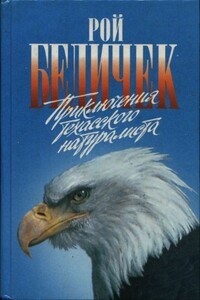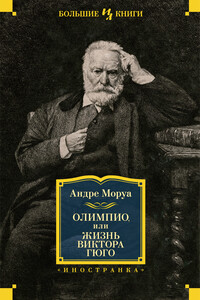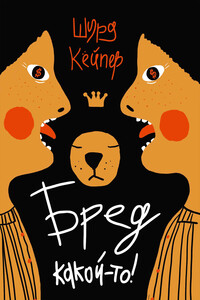Чары. Избранная проза | страница 7
Но раз говорилось, так говорилось.
К тому же оправдывало меня то, что страсть к науке пробудилась во мне внезапно и с некоторым опозданием. Предыдущие годы мною владела совсем другая страсть: к пивному под валу на Пушкинской, накрытым шапкой пены тяжелым стеклянным кружкам, подсоленным сушкам и оранжевым ракам с умильно-ласковыми бусинками глаз. Кроме того, я был заядлым прогульщиком и не слишком удачливым искателем донжуанских приключений.
Да, приключений, искатель которых, увы, всегда оказывался пристыженным и посрамленным, что гораздо больше склоняло его к запоздалому счету обид, надрывным исповедям, скандалам и дракам, чем занятиям чистой наукой.
Впрочем, и тогда во мне жила уверенность, что настанет миг, и, драчун и скандалист, я обложусь книгами и выдам, блесну, со овации — и не только ради того, чтобы отомстить за неудачи, стыд и унижение. Признаться, я отнюдь не безотчетно отдавался во власть стихийных сил. В пивное застолье я вкладывал гораздо больше, чем мои закадычные друзья, и, разрывая на себе рубаху, успевал окинуть себя оценивающим взглядом в зеркале, — окинуть с тем вожделением и пристрастием, в котором угадывается склонность болезненно, мнительно и ревниво воспринимать свое явление миру.
Горе это или не горе, но во мне уже тогда слишком многое было от ума, от науки — не той, что преподается в университетах, а своей, причудливой, домашней. Я и человек-то был комнатный, диковатый, потаенный, стремившийся устроиться в жизни так, чтобы меня никто не видел, а я мог тайком наблюдать за всеми. Я даже придумал для себя прозвище, некий титул — приватный наблюдатель, этакий хитрец с улыбочкой, себе на уме. Если выразиться поцветастее (а я с некоторых пор любитель), к пивным кружкам и ракам я присовокуплял позу саркастического познания жизни и, словно принц крови, облачался в нищенскую ветошь, чтобы неузнанным опуститься на самое дно.
Но, перекочевав на пятый курс, я понял, что миг настал, и поставил крест на прошлом. Подвала на Пушкинской, накрытых пеной кружек, оранжевых раков больше не существовало. Я знал лишь библиотеку и черный кофе.
Тему я выбрал простенькую — «Бедную Лизу» Карамзина, но собирался применить сверхмодные методы, щегольнуть таблицами с математическими выкладками, мудреными цитатами и даже преподать старику Карамзину кое-какую науку, подробно растолковав, где завязка, где узел и где развязка его незатейливого сюжета.
Впрочем, снедавшая меня лихорадочная горячка выдавала и иные честолюбивые планы: наблюдатель-то я приватный, но отныне я метил в яблочко… Мой университетский профессор Лев Онуфриевич Преображенский, бритый наголо циник, остряк, безобразник, лукавый льстец и любимец дам, был смущен таким натиском. Его пугало и озадачивало столь явное стремление выслужиться, понравиться, защититься с отличием и остаться на кафедре, которую он, попович, втихую называл не иначе, как марксистский приход.