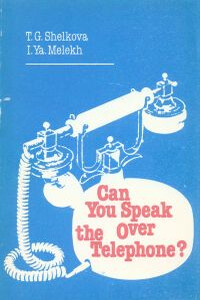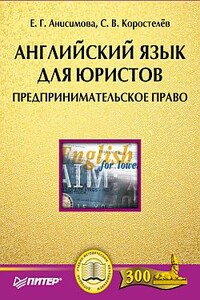Введение в языкознание (Курс лекций) | страница 25
Эйдетическое знание существует не только на заре цивилизаций, например, в древних мифах (Миф – это эйдос, данный как интеллигенция), эйдетическое осознание действительности характерно для любого индивида и любого совокупного индивида в любой момент развития. Разумеется, эйдетический момент присутствует и в эволюции лингвистических взглядов, ведь каждый лингвист одновременно является и пользователем языка. Этот ‘парадокс границы’ (границы между субъектом и объектом познания в гуманитарной сфере) вряд ли преодолим, да и вряд ли имеет смысл ставить вопрос о его преодолении. Правильнее, вероятно, стремиться к осознанию исходной эйдетической точки в континууме знаний, при этом элементы как ‘наивных’, так и ‘научных’ взглядов смогут получить более справедливую оценку. Практическое языкознание, возникающее раньше теоретического, несет в себе зачатки будущих теорий в виде подходов и методов.
Польский исследователь истории языкознания Адам Хайнц противопоставляет «материальное теоретическому». В дальнейшем, по его мнению, эта антиномия сменяется другой: «подробное, детальное универсальному».
Многие исследователи указывают на то, что первоначальный, эйдетический взгляд воспринимает язык, как целое. Более того, как отмечает Кассирер, неразрывное единство представляет собой и окружающий человека язык, и мифическая картина мира, и весь мир как сплав слова и вещи. Первое разделение языка – на язык земной и язык божественный [22, с. 305], на одном из которых говорят о явлениях, а на другом говорят о сущностях, – Ю.С. Степанов называет одной из философских констант, присущих всем исследовательским (а может быть и эйдетическим) парадигмам во все времена [102, с. 7-8]. В измененной форме эта же идея прослеживается и в противопоставлении общего, универсального, божественного, с одной стороны, и конкретноязыкового, с другой. Христианский Бог создает человека ‘по образу и подобию своему’, наделяя его речью, единым для всего человечества (до строительства Вавилонской башни) языком [Бытие 11:9]. Идея божественной универсальности языка, отождествление высшей духовной субстанции со словом наблюдаются в древнеегипетской, древнегреческой, древнеиндийской и других мифологиях [45, с. 9-10, 87-89, 117-118; 79, с. 65-66].
Естественный путь ауторефлексии наивного пользователя начинается с его микромира, его собственного индивидуального и этнического языка, т.е. с монолингвистической точки, с монолингвистического взгляда. Попробуем грубо сформулировать этот взгляд: тот язык, которым я владею, является единственным (единственно правильным) способом выражения, любые отклонения мне либо неизвестны, либо неправильны.