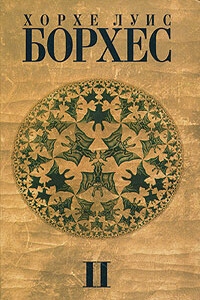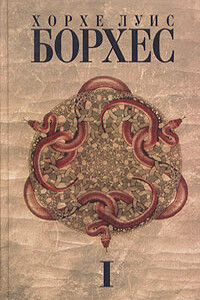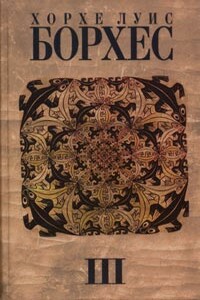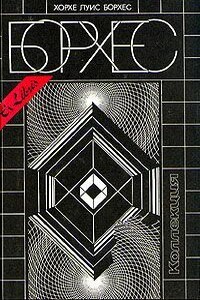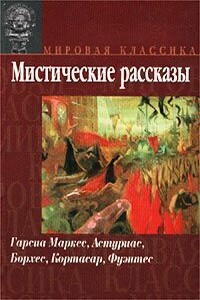Сообщение Броуди | страница 36
— Какая эрудиция! Какая способность обобщения! — воскликнул Циммерман. И уже спокойней прибавил: — Я должен признаться в своем невежестве касательно бретонских материй. Вы, как дневной свет, объемлете и Запад и Восток, тогда как я замкнут в своем карфагенском углу, который теперь дополняю крохами американской истории. Я всего лишь владею методом.
В его голосе звучала угодливость еврея и угодливость немца, но я чувствовал, что ему ничего не стоит признавать мое превосходство и льстить мне, поскольку его цель уже достигнута.
Он попросил меня не беспокоиться об оформлении его поездки («об этих негоциациях», употребил он отвратительное словечко!). Затем достал из портфеля адресованное министру письмо, где я излагал мотивы своего отказа и общепризнанные заслуги доктора Циммермана, и вложил мне в руку свое вечное перо, чтобы я поставил подпись. Когда он прятал письмо, я случайно заметил билет на самолет, «рейс Эсейса-Сулако».
Уходя, он снова остановился перед томами Шопенгауэра и сказал:
— Наш учитель, наш общий учитель, полагал, что ни один поступок не бывает невольным. Если вы остаетесь в этом доме, в этом замечательном патрицианском доме, значит, в глубине души вы хотите остаться. Благодарю и уважаю вашу волю.
Без единого слова я принял эту последнюю подачку.
Я проводил его до двери на улицу. Прощаясь, он воскликнул:
— А кофе был отменный!
Перечитываю эти бессвязные строчки и, наверно, брошу их в огонь. Да, недолгим было наше свидание.
Чувствую, что больше ничего не напишу. «Моп siege est fait»[8].
Евангелие от Марка
Эти события произошли в «Тополях» — поместье к югу от Хунина, в конце марта 1928 года. Главным героем их был студент медицинского факультета Валтасар Эспиноса. Не забегая вперед, назовем его рядовым представителем столичной молодежи, не имевшим других приметных особенностей, кроме, пожалуй, ораторского дара, который снискал ему не одну награду в английской школе в Рамос Мехия, и едва ли не беспредельной доброты. Споры не привлекали его, предпочитавшего думать, что прав не он, а собеседник. Неравнодушный к превратностям игры, он был, однако, плохим игроком, поскольку не находил радости в победе. Его открытый ум не изнурял себя работой, и в свои тридцать три года он все еще не получил диплома, затрудняясь в выборе подходящей специальности. Отец, неверующий, как все порядочные люди того времени, посвятил его в учение Герберта Спенсера, а мать, уезжая в Монтевидео, заставила поклясться, что он будет каждый вечер читать «Отче наш» и креститься перед сном. За многие годы он ни разу не нарушил обещанного. Не то чтобы ему недоставало твердости: однажды, правда, скорее равнодушно, чем сердито, он даже обменялся двумя-тремя тычками с группой однокурсников, подбивавших его на участие в студенческой демонстрации. Но, в душе соглашатель, он был складом, мягко говоря, спорных, а точнее — избитых мнений: его не столько занимала Аргентина, сколько страх, чтобы в Других частях света нас не сочли дикарями; он почитал Францию, но презирал французов; ни во что не ставил американцев, но одобрял постройку небоскребов в Буэнос-Айресе и верил, что гаучо равнин держатся в седле лучше, чем парни с гор и холмов. Когда двоюродный брат Даниэль пригласил его провести лето в «Тополях», он тут же согласился, и не оттого, что ему нравилась жизнь за городом, а по природной уступчивости и за неимением веских причин для отказа.