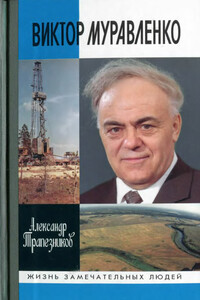Шандор Петефи | страница 41
Сей литературный муж, когда ему представили в Пожоне оборванного Петефи, встретил его надменно и холодно. Да и как иначе мог его встретить человек, который определял ценность поэта по тому, каково его состояние, какой величины у него квартира и как она обставлена. А Петефи… он и два года спустя снимал комнатушку в восемь квадратных метров. Так стоило ли иметь дело с таким ничтожным человеком?
Войдя к Кути, Петефи огляделся и помрачнел. Он тут же хотел бросить ему нечто резкое, но удержался, не желая ставить в неловкое положение друга, который привел его к Кути. Петефи стоило немалых душевных сил сдержать себя и не выругаться в роскошной квартире, а уже на лестнице и на улице. Но бранью все равно не восстановишь душевного равновесия. Как у всякого настоящего поэта, и у Петефи все это должно было разрешиться стихами:
Пока он мог ответить только бранью, но не прошло и двух лет, как… Однако не будем забегать вперед.
Он почувствовал себя чужим среди этих людей. Не таким представлял он себе «жрецов» венгерского слова, учителей венгерского народа. Ему, действительно народному поэту, оскорбительны были их снисходительные похлопывания по плечу и ненавистна проповедь искусства как самоцели. Тщетно пытались «доброжелатели» засадить его за переводческую работу, которая при работоспособности поэта (за три недели он перевел с немецкого роман в девятьсот страниц) обеспечила бы ему кое-какой заработок. Пе-тефи не мог мириться с тем, что поэзию превращают в холодное ремесло, и он покинул эту среду. А кто пришел ему на память в этой чужой и чуждой ему обстановке? Та женщина, которая всю жизнь трудилась, рыдая, рассталась с ним, тревожилась за него, ждала, — его родная мать. Еще в Пожоне написал он ей горькое сыновнее признание: