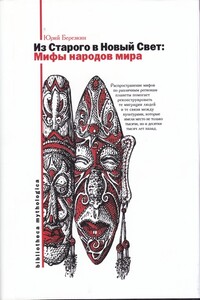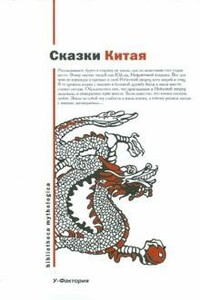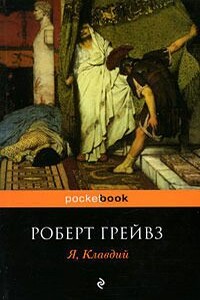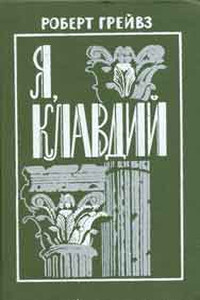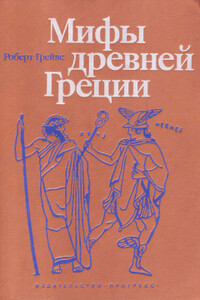Белая Богиня | страница 4
Но даже после того, как Александр Великий совершил деяние, имевшее величайшее нравственное значение, хотя это редко признается, и разрубил гордиев узел, древний язык выжил в своей первозданной чистоте только в тайных мистериях в Элевсине, Коринфе и Самофракии, а когда и там до него добрались беспощадные ранние христианские императоры, ему продолжали обучать в поэтических школах Ирландии и Уэльса и на шабашах ведьм в Западной Европе. Как народная религия он исчез в конце семнадцатого столетия, и если в индустриальной Европе кто-то еще изредка пишет магические стихи, это происходит скорее благодаря вдохновенному и ничем не объяснимому возвращению к первоначальному языку (дикому обретению речи на Троицу), чем скрупулезному изучению его грамматики и словарного запаса.
Постижение английской поэзии должно начинаться не с «Кентерберийских рассказов», и не с «Одиссеи», и даже не с «Книги Бытия», а с «Песни Амергина»[6] — древнего кельтского календаря-алфавита, найденного в нескольких, естественно несовпадающих ирландских и валлийских вариантах и коротко суммирующего поэтический миф в его рассвете.
Я попробовал восстановить текст:
Жаль, что, несмотря на глубоко мифологическую основу христианства, «мифическое» стало означать «сказочное, нелепое, неисторическое», ибо фантазия играла несущественную роль при создании греческих, римских и палестинских мифов, равно как и кельтских, пока нормандско-французские труверы не превратили их в занимательные и пустые рыцарские романы. Все эти мифы являются очень точным воспроизведением религиозных обычаев или событий и достаточно достоверны с исторической точки зрения, стоит лишь познать их язык и сделать допущения на ошибки в написании, на непонимание исчезнувших ритуалов и неизбежные поправки нравственного или политического характера. Одни мифы дошли до нас почти в первозданном виде, другие — в более измененном. Например, «Мифы» Гигина, «Библиотеку» Аполлодора и ранние сказания валлийского памятника «Мабиногион» читать гораздо легче, чем обманчиво простые хроники «Книги Бытия», «Исхода», «Книги Судей» и первые две «Книги Царств». Наверное, самая большая трудность в решении всего комплекса мифологических проблем заключается в том, что: