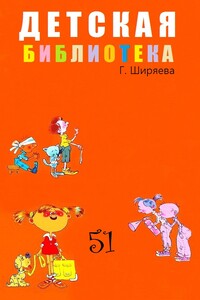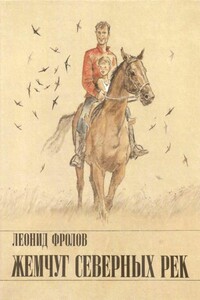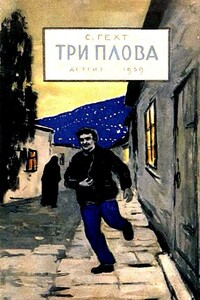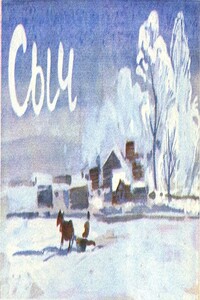Утренний иней | страница 61
«За сколько можно его продать? — безжалостно подумала Фаля. — Почему она жалеет этот ковер? Нам приносят милостыню. Да! Милостыню! А у нас в доме дорогой ковер!» Мать сейчас, впервые в жизни, назвала ее взрослой. И значит, Фаля имеет право теперь решать все сама.
— Ульяна Антоновна, — сказала она тихо соседке, которая, сама расплакавшись, все еще никак не могла успокоиться и украдкой уголочком платка вытирала со щек слезы. — Вы видите, Ульяна Антоновна… Мама лежит на сквозняке. Ее кровать надо отодвинуть от стенки.
— Ну что ж, милая, — сказала Ульяна Антоновна. — Давай отодвинем.
Они с трудом отодвинули кровать от стены так, что мать теперь уже не могла дотянуться до ковра.
— Фалечка! — пожаловалась мать. — Но я его теперь совсем не вижу.
— Ничего, увидишь! — грубовато сказала Фаля. — Вот квартиру обогреем, тогда кровать на место переставим.
Растапливать печь у нее уже не было сил, и, когда ушла Ульяна Антоновна, она легла на свою кровать лицом вниз, уткнувшись в подушку, и затихла. Очнуться ее заставил стук в дверь.
С трудом передвигаясь по комнате, она выбралась в прихожую, откинула крючок.
Валентин стоял на пороге.
Может быть, оттого, что они так почти и не разговаривали после его приезда, вдруг что-то прежнее, что-то довоенное незримо вошло в эту темную холодную прихожую.
— Здравствуй, — тихо сказал Валентин.
И это «здравствуй» он сказал как-то по-прежнему, без той холодной суровости, которая была в его голосе в первый день их встречи.
— Здравствуй, — тихо ответила Фаля, и вдруг на одну-единственную секунду ей вспомнилась огромная сцена, и разноцветные праздничные лучи театральных прожекторов, и тихая музыка вразнобой, когда оркестр настраивается на увертюру.
— Вот, смущенно сказал Валентин. — Вот…
Он протягивал ей мисочку гороховой каши.
— Это… для Тобика.
Фаля поняла, что Валентину мучительно стыдно. На этот раз милостыню принес он, потому что дед Васильев пропадал на заводе целыми сутками… Когда-то он приносил ей мороженое в красивых продолговатых раковинах-вафлях, а теперь принес милостыню. И ему было больно и стыдно.
А Фале не было стыдно. Она думала только об одном — как сытно можно накормить Галку и Витальку этой кашей.
Но она не могла ему лгать. Из-за миски гороховой каши теперь она могла солгать что угодно и кому угодно. Но только не ему. Ему солгать она не могла.
— А он… умер, — сказала она, тупо глядя на миску с кашей в его забинтованных руках.
Тобика она похоронила еще месяц назад. Не похоронила, а просто отнесла его маленький высохший трупик на свалку.