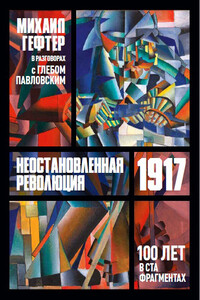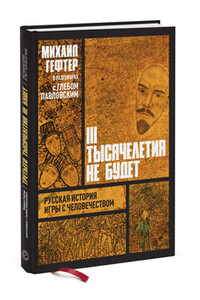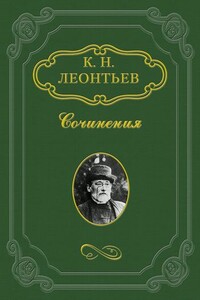Мир миров - российский зачин | страница 6
Так от выискивания истоков идеи двух путей я заново обращался к Ленину, будто неизменно тождественному самому себе, а от преодоления этого огосударствленного мифа приближался к загадке действительной цельности, к закрытой постороннему глазу тяжбе Ленина с собой; а от его внутреннего мира шел к Миру по тем мосткам, чье безусловное и условное имя - Россия. Россия, безусловная своими пределами и судьбой, своими исканиями и поражениями ищущих; условная - несводимостью (прежней и новой) к чему-то одному, единоосновному: не страна, а мир в Мире, существованием своим запрашивающий человечество: быть ему иль не быть?
Между Лениным и Марксом - эта Россия. Лениным она вступала в спор с классическим, универсальным Марксом, и Лениным же классический марксизм вступал в схватку с Россией, какова она есть и каковой еще ей предстояло стать... От двух путей к одному. От предвосхищения альтернативы - к действию и торжеству действия. От торжества к трагедии беспутья. Простор отсутствия, который открылся русскому эмигранту Герцену в европейской революционности 1793-1848 годов, стал новым простором России, пережившей свою великую революцию, - простором нашей России.
И только ли России?
...Почему Ленин, живо откликавшийся на всякую новую публикацию Марксова наследства, особенно переписки, вводящей, как выразился он сам, в интимную жизнь мысли, прошел мимо такого крупного события, каким явился в 1908 году выход в свет эпистолярного диалога Маркса c Н.Ф.Даниельсоном, который был, как известно, основоположником экономической теории народничества? Быть может, Ленина задела близость этих людей, родство представлений их о том, что касалось настоящего и вероятного завтра пореформенной России? Но ведь сам он проделал к этому времени значительную эволюцию, и его ранний (90-х годов и времени Искры) и уже тогда далеко не правоверный взгляд на народничество не только обрел опору в собственном экономическом анализе и опыте русской революции, но и раздвинулся до границ Мира, поскольку именно Мир - не меньше - виделся за восставшей мужицкой Россией и пробуждающейся Азией. И Мир этот заговорил по-народнически.
Сейчас чему бы удивляться. Этот голос слышен отчетливей других, он недвусмысленно всеобщий - не ограниченный континентами, проходящий сквозь все средостения, отражаясь на экранах самых разных идеологий, вер, научных и ненаучных суждений. А тогда? Его легко было представить атавизмом. В глазах первого русского марксиста (1) народники были утопистами времен царя Гороха. И в самом деле, что, собственно, могла внести эта периферийная утопия во всемирную историю, закон которой уже открыт и постигнут? Теперь мы вправе утверждать, что от того или иного ответа на этот вопрос зависела прежде всего судьба самого марксизма. У Ленина, правда, она не вызывала ни малейших сомнений. Расширение народнического ареала он готов был истолковать как еще одно доказательство истинности учения Маркса. Но уже эта готовность обязывала. Возрождение утопии в небывалых размерах, в формах самого что ни на есть массового сознания (и действия!) таило вопрос о причинах, об их материальном субстрате. Будущее оказывалось и в практической и в теоретической зависимости от прошлого. Истинность Маркса требовала по меньшей мере подтверждения.