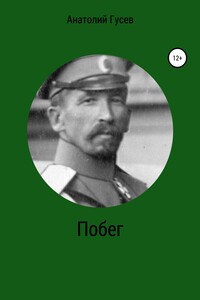Гений вчерашнего дня | страница 40
«Засиделся ты, душа, в своей Таракановке!» — назойливым комаром пищал он, спускаясь в подвал. А там за разболтанной дверью вертлявый и горбоносый то ли грек, то ли еврей всучил Иллариону Евграфовичу томик в кожаном переплёте.
«Хороший перевод, — спустив на нос очки, блеснул Илларион Евграфович, листая страницы. — И сколько запросишь?» Восточный человек себя не обидел. «Ишь, книжный червь…» — хмыкнул Илларион Евграфович. Но, испугавшись обнаружить невежество, кряхтя, расстался с ассигнацией. «Разрази тебя холера!» — думал он, подавая на прощание руку Синичкину. Зато теперь под собольей шубой в бок упиралась книга, помнившая липкие пальцы не то грека, не то еврея.
Звякали колокольчики, бескрайние поля сменяли бесконечные леса, и от этого клонило в сон. «Долго ли ещё, Матвеич?» — крикнул Илларион Евграфович для острастки и, не дождавшись ответа, приблизил буквы к близоруким глазам. И тут же поехал в книге по залитым солнцем равнинам мимо выжженных пастбищ, шальных табунов и утлых деревень, в которых пьяные пастухи тычут друг в друга ножи. Вот из трактира вывалились двое. Один сунул руку за пазуху, другой — за голенище. «У тебя там что-то есть, — процедил первый. — Доставай же, сравним…»
«Ты уже убивал меня в предыдущей аватаре, — равнодушно возразил второй, — теперь мой черёд…» «Дурак, — подумал Илларион Евграфович, — в морду бьют первым!»
И вспомнил Туречину, где стоял его полк: голые места, дикие народцы, их босых скакунов и храбрость до первого залпа. «Не балуй! — крикнул он по-испански. — А то живо к исправнику!» Пастухи упёрли в бок шляпы, прожигая насквозь глазами. Но ножи достать не решились. «Розог бы надо… — думал, отъезжая, Илларион Евграфович. — Культура не грибы — от дождя не вырастет…»
По бокам, конвоем, тянулись сугробы. У Иллариона Евграфовича защекотало в носу. Поёрзав, он залез в карман и успел чихнуть в платок. Книга упала. Он полистал её с полчаса, но прежнего места уже не нашёл.
«Какая, однако, толстая…» — пробормотал он. Матвеич затянул «ямщика». «Жизнь — долгая песня, — подумал Илларион Евграфович, — в юности её поёт страсть, в старости — немощь…» И сквозь дрёму ему стало чудиться, будто он, как Всевышний, лепит из глины Матвеича. Сердце, печень, драный зипун. Вот копной нахлобучил ему седой парик, подвёл дёгтем ресницы, перекосил глаза и бычьей кровью нарумянил щёки. Пристегнув Матвеича к вожжам, он потянулся за кальяном, любуясь на свою работу, когда вдруг почувствовал, что и его самого кто-то лепит в своём сне, как лоскутное одеяло, сшивая из кусочков теней, отделяет от сумрака, дёргая за уши, как морковь.