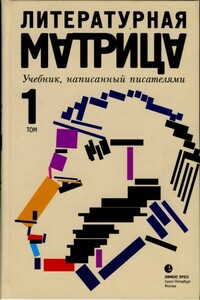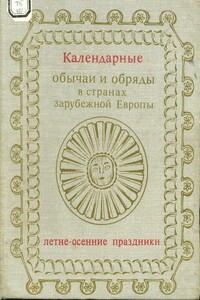Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 | страница 86
Впрочем, даже самые яростные критики молодых футуристов способны были заметить, что Маяковский стоит «особняком от всей этой каши» (так писала одесская газета «Южная мысль»).
Таким было начало семи самых плодотворных лет в творческой биографии поэта. И плодотворными они были не в количественном отношении, а в качественном. Впоследствии, когда забронзовевший Маяковский, наделенный всяческими мандатами и полномочиями, обласканный властью, беспрерывно гнал стихотворение за стихотворением, словно ударник литературного труда, — ему не удалось даже приблизиться к созданным в тот ранний период шедеврам. Но эти шедевры позволяют утверждать, что Маяковский был гением.
В стихах, написанных в то время, буквально в каждой их строчке, отчетливо проступает неудовлетворенность существующей действительностью, протест против тупости, лицемерия и смертельной скуки, царивших в мире, который окружал поэта. Им он противопоставляет уникальность человеческой души — своей собственной. Но это подразумевает, что и всякая человеческая личность, если ее разбудить и как следует встряхнуть, уникальна.
Встряхнуть, например, так, как Маяковский делает в стихотворении «А вы могли бы?».
Здесь поэт уже не стремится ни напугать читателя, ни эпатировать. Здесь он показывает, что за окружающей нас повседневностью, за «картой будня», скрывается громадный и удивительный мир — и нужно лишь суметь увидеть его. А помочь в этом, разумеется, должно новое искусство.
Набор образов в этом стихотворении только кажется случайным. На самом деле их последовательность продиктована четкой логикой. Но это логика особого рода — ассоциативная. «Карта будня» представляется нам серой, бесцветной, скучной — именно на фоне расцвечивающей ее краски. Студень до его застывания был соленой жидкостью — как и океанские воды. А в «косых скулах» мы угадываем океанские волны, что можно понимать как взволнованность автора. И, наконец, на флейте играют именно новые губы, зовущие читателя отринуть скуку повседневности и новыми глазами взглянуть на огромный и прекрасный мир.
Такая трансформация предметов и явлений характерна для Маяковского. В своих стихах он мастерски пользуется развернутыми метафорами: «вбиваю гулко шага сваи», «фокусник рельсы тянет из пасти трамвая», «перекрестком распяты городовые», «с каплями ливня на лысине купола скакал сумасшедший собор», «с неба, изодранного о штыков жала, слезы звезд просеивались, как мука в сите», «по эхам города проносят шумы на шепоте подошв и на громах колес»…