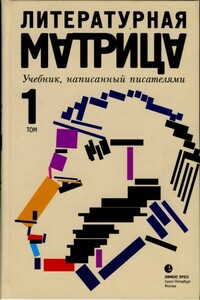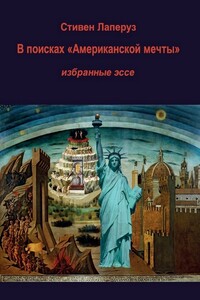Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 | страница 116
Это наша земля, земля каждого, этот потоп мы остановим сами — своими руками. «…Землю, / которую / завоевал / и полуживую / вынянчил»[129], — такую землю не отдают, на ней строят город-сад. Это вам не барственное описание случившейся неприятности: знаете, голубушка, «я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был». А где ж тебе и быть, как не с народом? Ты что — от других отличаешься, потому что в рифму говоришь? У тебя что, иные права на свет и воздух, на смерть и на пенсию? Это что, особый подвиг — разделить свою жизнь с другими? Разве это не самое что ни на есть естественное, такое, чем гордиться зазорно?
Российская история такова, что проверяет людей на шкурность постоянно: на войне, в тюремной очереди, в лагере, в революции. Одна беда сменяет другую, или, точнее, одна историческая глава вытекает из другой — и расчленять процесс поглощения людей исторической мясорубкой на отдельные эпизоды трудно. Тех, что воевали с кайзером, а после взялись за винтовки, чтобы делать революцию, — потом их же погнали в лагеря, где они досидели до второй, еще более страшной войны, в которой их уже убивали всерьез, — и трудно сказать, кому было тяжелее: тому, кого давили танками подо Ржевом; или тем, кто был на лесоповале в Сибири; или тем, кто тонул в болотах обреченного Брусиловского прорыва; или тем, кто рвался по трупам товарищей к Берлину. Тот, кто был жлобом и жадиной в период революционной разрухи, скорее всего оказался трусом подо Ржевом — хотя идеологические составляющие этих событий различны. Однако в России речь всегда идет об ином, и лишь по видимости об идеологии. Говорится: «коммунисты», «капиталисты» — но имеется в виду простое, самое существенное: умение принять чужое горе как свое, решимость не прятаться за чркие спины. Можешь — ну, тогда ты чего-то стоишь, а за красных ты при этом или за белых — потом разберемся. Хрен с ней, с идеологией, речь совсем о другом — годишься ли ты в товарищи по несчастью? Тот, кто «две морковинки»[130] нес за зеленый хвостик и мог ими поделиться с голодными, он потом и на Курской дуге неплохо себя вел. Те, кто достойно вел себя на пересылках, они потом и в окопах вели себя как подобает. А те, кто исправно писал передовицы в советских журналах, а после победы капитализма гвоздил давно покойных большевиков — ох, не хотелось бы с ними попасть в один окоп. Вот их, шкурников, соглашателей — их как раз Маяковский и называл мещанами. Беда в том, что именно такими людьми и пишется наша история — нет у нас других летописцев. Это они сначала гнали народ на Первую мировую — а потом обсмеяли ее нелепицу; сперва прославили Октябрьскую революцию за свободолюбие — а потом поругали ту же революцию за кровожадность; сперва воспели Великую Отечественную за патриотизм — а потом раскритиковали за напрасные жертвы и дурное командование. Сейчас они служат капиталистическому начальству и пишут о новой цивилизации и прогрессе — придет время, и они будут так же искренне ругать ворюг. Именно они и вышли победителями в российской истории — а революционеров, поэтов и солдат давно уже закопали в могилы.