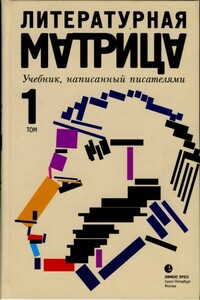Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 | страница 109
Впрочем, уже следующее стихотворение Маяковского поясняет, для чего скомканы и отброшены багровый и белый: в сущности, они скомканы тем же движением, каким смазывается «карта будня». Требуется произвести яркий, сокрушительный жест — для того, чтобы покончить с будничной серостью, надо плеснуть краску из стакана или сделать еще что-нибудь, столь же отчаянное.
Молодой Маяковский сразу и очень громко сказал людям: в будничном я провижу вселенскую гармонию, в вашей пустой жизни я сумею найти вечный смысл. Однако не случись Октябрьской революции, Маяковский оказался бы в неловком положении — предложить что-либо внятное (помимо «чешуи жестяной рыбы» и нежелания смешаться с толпой обывателей) он не мог. Ну, просто не знал, что именно предложить. Он понял главное: большое можно сделать только из малого, золото — из грязи; просто потому, что других материалов в природе нет, приходится брать то, что под ногой. Из этого подножного материала и надо лепить новую жизнь. Но что именно лепить — не знал.
Так же нелепы апостолы Натальи Гончаровой, которые таращат бессмысленные бараньи глаза в пространство. Почему эти лесовики — апостолы? Потому что подпись под картиной такая? И пророк, изображенный Эрнстом Барлахом[113], выглядит неубедительно. Всклокоченные волосы, выпученные глаза, вены на шее вздулись. Понятно, человек взволнован. Но по какому поводу? Провозгласить себя апостолом — дело плевое. Дальше-то что делать? Соображений по этому поводу у художников и поэтов было немного, а желания назваться учителем — напротив того, очень много.
Эту бессмысленную амбицию великолепно пародировал Булгаков — есть в «Собачьем сердце» эпизод, в котором вчерашний пес, а ныне Полиграф Шариков провозглашает тост. Шариков отрицает обычные тосты — за здоровье и т. п., — они ему кажутся буржуйскими и малосодержательными. Когда же ему предлагают высказаться, он провозглашает: «Ну, желаю, чтобы все…» Что все? Куда все? Чего желает-то? Именно так и пророчествовали апостолы начала века.
Абстрактно-генеральные пожелания (Маяковскому они были присущи так же точно, как и всем поэтам вообще) поражают своей сказочной несбыточностью. Когда поэт пишет «и счастье сластью огромных ягод дозреет на красных октябрьских цветах», это пожелание, безусловно, хорошее — в конце концов, поэт хочет людям счастья. Однако по степени достоверности и ответственности за слова это пожелание более всего напоминает прожекты Манилова: «Как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян». Конечно, оно бы недурно, чтобы счастье зрело, как клубника на кустах, только ведь это крайне недостоверно и вряд ли осуществимо, как и фантазии Манилова. Ляпнуть — можно, а толк какой? Искусство начала века (в его апостольско-библейских амбициях) вообще крайне декларативно, но если попробовать вспомнить, какие именно рецепты для счастья предлагали пророки — руками в недоумении разведешь. Поэт хочет блага всей этой «мировой человечьей гуще», но как именно это генеральное благо осуществить — не ведает. Предположить, что показательно застывший на мосту сверхчеловек (см. поэму «Про это»: «Семь лет стою, буду и двести стоять пригвожденный, этого ждущий») своим скорбным стоянием оказывает массе (или толпе) благо, — довольно затруднительно. Скорее уж, этот образ отсылает нас снова к мосту Манилова. Хотелось бы (так бы сказал Манилов) построить, к примеру, расписной мост, и чтобы на нем стоял этак лет двести сверхчеловек и желал всем блага. Недурно было бы, ей-богу, недурно.