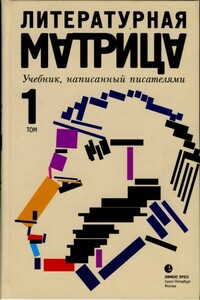Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 | страница 105
Для Маяковского этого промежутка — между историческим земным злом и внеисторическим земным раем — не существует. Бедняк не может получить утешения здесь — он должен перейти в рай, где будет утешен наряду с другими. И неразрешимое противоречие между исторической необходимостью перемен — и внеисторическим существованием, понятым как благо, внесло в трагедию «Владимир Маяковский» неприятную, фальшивую ноту. Асеев вспоминает, как Маяковский, услышав сентиментальный романс «Мы на лодочке катались, золотистой-золотой», сказал: «Я б считал себя законченным поэтом, если б смог такую написать»[100]. Однако такую Маяковский написать никак не мог — поскольку поэтом не был. Он решил из поэзии сделать апостольскую проповедь, служить чему-то надмирному.
Маяковский назвал себя «тринадцатым апостолом», имея в виду, что спустя два тысячелетия он присоединяется к избранной компании спутников Христа. Как и они, он готов принять мученический венец и нести людям слово истины. Многим невдомек, как было неизвестно то и Маяковскому, что метафору «тринадцатый апостол» изобрел не он. Метафора эта возникла еще в Византии: Анна Комнина в «Алексиаде» так именовала отца, императора Алексея Комнина, с тех пор этот термин сделался одним из титулов базилевса.[101] Тринадцатыми апостолами именовали себя и Комнины, и пришедшие на смену Комнинам Ангелы[102]. Так что в самой метафоре, увы, заключен двойной смысл: избранный Спасителем ученик — одновременно и повелитель христиан, демиург, властитель духовный и светский. Так получилось случайно, Маяковский не хотел этой властной ноты в своей метафоре. Но ведь в искусстве ошибок не бывает — когда Рембрандт делает неуклюжее движение кистью, он полнее всего выражает себя. Крикогубый Заратустра и Тринадцатый апостол — не столь противоречивые образы, как может показаться: они легко объединяются в фигуре базилевса. Авангардно ли провозгласить себя византийским императором? Да, пожалуй, авангардно.
Авангардисты вообще охотно обращались к евангельской терминологии и почти всегда использовали ее не по назначению. Поскольку в коммунистической религии используются те же самые термины, что и в конфессиональном христианстве (апостол, мессия, служение), — возникает неразбериха. Впрочем подобная путаница была не только у Маяковского, но у всех поэтов, провозгласивших себя в те годы евангелистами.
Тема служения Богу, а не Мамоне — тема, достаточно распространенная в творчестве писателей, художников, поэтов — во все времена, во всех странах. Собственно говоря, в такой посылке и нет ничего оригинального: художник является представителем истинных ценностей перед лицом мира, во зле лежащего. Всякий социальный катаклизм (будь то во времена Великой французской революции, или русской революции 1905 года, или Ноябрьской революции 1918 года в Германской империи) только обостряет общее положение. В XX веке — с той же логикой, какая присутствовала ранее, — художники и поэты обратились к библейской теме, и это стало массовым явлением. В России в предреволюционное время, а равно и в пореволюционное время, образы Потопа, Страшного суда — вообще вещь предельно банальная. Апокалиптические образы использовали все, от теологически образованного Мережковского до писателя-террориста Савинкова («Конь бледный»