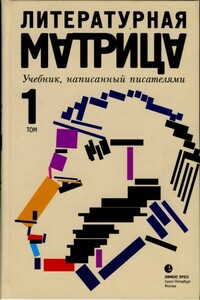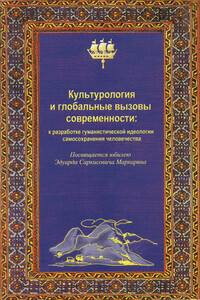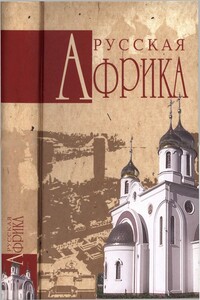благополучно чередуется с призывами «На пепельницы черепа!»
[84]. Легко допустить, что те, чьи черепа предназначены на пепельницы, тоже плачут, но, вероятно, именно на их слезах поэт себя распинать не намерен. Жестокости в его стихах принято оговаривать: это, де, так — метафора, не всерьез. Однако какой именно из приведенных примеров — метафора? Черепа для пепельниц действительно использовали, а вот на слезе распять себя невозможно. Может быть, метафора — это как раз насчет слез? Возможно, что и жестокости, и прекраснодушие, и то, и другое — метафоры. Но жестокость выглядит более натурально, «…люди, / и те, что обидели — / вы мне всего дороже и ближе»
[85], — восклицает поэт; и этот же поэт говорит: «…выше вздымайте, фонарные столбы, / окровавленные туши лабазников».
[86] Конечно, лабазники поэта обидели, но ведь он утверждает, что те, кто обидели, даже дороже прочих, — так неужели именно лабазников простить не может? Когда поэта захлестывает бешенство, его стих делается чеканным и страстным — вдохновение трудно имитировать. «Сегодня / надо / кастетом / кроиться миру в черепе!»
[87] — сказано так, что не забудешь. А рядом — пожелания пожертвовать собой во имя людей и благие намерения выражены так же страстно: «…душу вытащу, / растопчу, / чтоб большая! — / и окровавленную дам, как знамя»
[88]. Чему верить? Да и образ растоптанной души какой-то сомнительный. Что же получается: если поэт, ради служения людям вытащил из себя душу — он стал бездушным? И может ли такой бездушный — людям служить? Коротко говоря, в теме служения людям много неясного — поэт искренне хочет им служить, но люди попались ему крайне неудачные, и он разочарован.
6
Отношение поэта к Богу также довольно противоречиво. Он назначает себя тринадцатым апостолом, но, чуть что, угрожает Господу расправой: «…тебя, пропахшего ладаном, раскрою»[89]. Никакого почтения в его отношении к отцу небесному не наблюдается — «…с неба смотрела какая-то дрянь / величественно, как Лев Толстой»[90], «недоучка, крохотный божик»[91] и так далее. Иногда поэт забывает о своем апостольском чине и самого себя принимает за Иисуса Христа: «Был абсолютно как все — / до тошноты одинаков — / день / моего сошествия к вам»[92]. Как можно одновременно быть апостолом и Богом — представить непросто. Трудно вообразить, чтобы религиозный поэт (например, Данте) путался в самоидентификации — и самого себя принимал одновременно и за Господа, и за вожатого, и за ученика. Иерархия в представлении средневекового поэта была предельно ясной — у Маяковского же полная неразбериха, здесь и богоборчество, и богоискательство перемешаны в один непонятный продукт. Понятно, что ни о какой конкретной конфессии речь не идет, но иногда не ясно даже, идет ли речь о христианстве. Христианская риторика очевидна, но и поправки к христианству, внесенные поэтом, тоже очевидны. «Мой рай для всех, / кроме нищих духом»