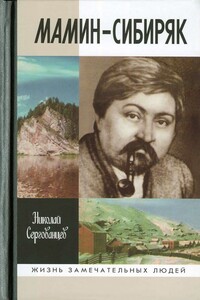“На Москву” | страница 46
Город был неузнаваемый. Все магазины были закрыты. Даже уличных продавцов, крикливых мальчиков восточного типа, не было ни одного. Я нигде не мог купить ни папирос, ни портвейну, которым хотел наполнить мою походную флягу. Улицы были почти пусты, и только патрули ходили взад и вперед, кого-то задерживая, кого-то не пропуская. Город уже умер.
Я пришел в поезд в полном сознании, что уже нашей последней экспедиции больше не будет. Придя домой, я увидел полное безлюдье: не было ни офицеров, ни солдат. Я встретил нашего фельдфебеля Хацковского.
— Где же все? Почему никого не видно?
— Пошли грузить пароход. Нам дают право погрузиться, если наша команда погрузит чей-то груз на три тысячи пудов.
— Значит, мы бросаем базу?
— Да.
Неизбежное приближалось. Я пробовал выяснить, отменяется моя поездка на позицию или нет. И всем, кого я встречал, казалось, что ни о какой боевой смене не может быть и речи. Уже стало смеркаться, когда подъехал грузовик и нам приказано было спешно грузить на него наше имущество. Выгрузили цейхгауз, всякое “барахло”, муку. Потом приказано было быстро погрузить наши вещи. Совсем стемнело. Я погрузил уже свое имущество и в последний раз вошел в теплушку, где было прожито столько незабываемых минут. Горела на столе керосиновая лампа, освещая кругом полный беспорядок. Скоро придут сюда торжествующие враги и расположатся на наших койках. Будут злорадствовать над нами; будут поносить то, что нам было так дорого.
Была темная ночь, когда с последним грузовиком, доверху загруженным разным имуществом, я — в компании моих товарищей — поехал на пристань. Мне не хватило места, и я стоял посредине тюков и людей с ощетинившимися винтовками. И вспомнилась не раз виденная картина — грузовик, нагруженный товарищами, вооруженными до зубов. Когда-то так “драпали” они из Харькова; лица их были злобно-сосредоточенны и одновременно сконфуженны, вероятно, такими уезжали теперь мы. И я рад был, что темнота ночи скрывает нас от людей, которые жадно искали кругом все, что оставляла армия, и которые, может быть, радовались нашему позору. Лик ночи смягчал и наше поражение, и их алчность.
По мере приближения к порту дорога все больше загромождалась повозками, автомобилями и лошадьми. Движения делались более нервными; окрики людей более грубыми; видно было, как мысль — простая и страшная — оставаться во власти большевиков подгоняла всех, и тем сильнее, чем меньше оставалось пространства до Черного моря. И на самой пристани, в полной темноте, которую иногда побеждал ослепительный блеск прожектора, люди нервно бегали, грузили, выгружали и — наиболее счастливые — сами грузились.