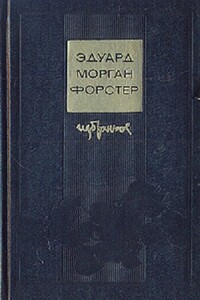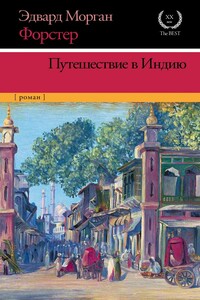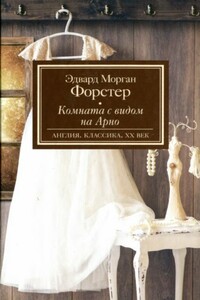Эссе | страница 51
Возьмем самую заурядную смерть — смерть миссис Прауди из романа Троллопа «Последняя хроника Барсета»>{58}. В ней нет ничего из ряда вон выходящего, а впечатление страшное! Потому что Троллоп успел провести миссис Прауди по многим и многим дорожкам епархии, пуская ее всевозможными аллюрами, заставляя вставать на дыбы и взбрыкивать, приучая нас — настолько, что даже приедается, — к ее повадкам и нраву, к ее «епископ, помни о душах паствы твоей!», а потом, вдруг, сердечный приступ у края постели — и нет больше миссис Прауди. Чего только не извлекает писатель из обыкновенной смерти! Чего только не изобретает вокруг нее! Дверь в темноту, ожидающую нас после бытия, ему широко открыта, он даже вправе (если только хватит воображения да достанет ума не пичкать нас обрывками спиритической чепухи о «загробном мире») проводить героя за ее порог.
Ну а как обстоит дело с едой, этим третьим пунктом в нашем списке? Еде в романах отводится чисто социальная функция — герои обычно встречаются за едой. Физиологически же она им не нужна: они редко наслаждаются пищей, никогда ее не переваривают, разве что по особому авторскому заданию. Им, как и в жизни, ничего не стоит изголодаться друг по другу, но не менее постоянное и сильное желание утолять физический голод не находит отражения в романах. Даже в поэзии здесь сделано не в пример больше — по крайней мере в эстетическом плане. Милтон>{59} и Китс>{60} сумели лучше передать чувственную сторону этого процесса, чем Джордж Мередит.
Сон. Столь же поверхностная картина. Никто даже не пытается воспроизводить состояние забытья или подлинный мир сновидений. Сны в романах либо сугубо логичны, либо представляют собой мозаику, составленную из контрастных фрагментов прошедшего и будущего. Их вставляют в роман с определенной целью, но цель эта — показать не всю жизнь человека в целом, а лишь ту ее часть, которую он проводит наяву. До того факта, что треть его жизни погружена во тьму, писателю, видимо, нет дела. Он идет здесь по стопам историка с его ограниченной «дневной» точкой зрения, хотя в других отношениях избегает ее. А почему бы ему не познать и не воспроизвести сон? Ведь у него есть право на вымысел, и мы всегда знаем, когда вымысел достоверен, потому что страстная одухотворенность писателя делает и невозможное возможным. Но пока писатели не сумели ни переснять, ни создать мир сновидений. И приходится довольствоваться амальгамой.
Любовь. Романы, как вы знаете, просто распирает от любви, и, надеюсь, согласитесь со мной, что это им только во вред, так как приводит к однообразию. Почему именно это чувство, в особенности половая страсть, вводится в романы в таких огромных количествах? При слове «роман» вы тотчас представляете себе любовную историю — мужчину и женщину, желающих соединиться и в ряде случаев достигающих этой цели. При слове «жизнь», думаете ли вы о своей или чужой жизни, вас обступают совсем иные и не в пример более сложные образы.