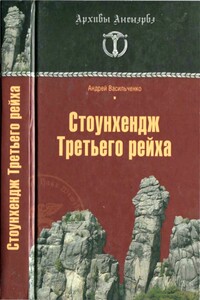Новгородская Русь по берестяным грамотам | страница 17
Повторяю, не буду вам перечислять все 30 особенностей, это было бы совершенно неуместно. Но факт тот, что основная сенсация для лингвистов была в том — почему так рано? Как может быть, чтобы в XI–XII вв. уже была разница между, скажем, центральным говором, киевским, и новгородским? Традиционное представление было совершенно простое — единый древнерусский язык, совершенно монолитный на всей территории, где он был распространен, т. е. вся нынешняя европейская Россия, будущие Россия, Белоруссия, Украина. Затем со временем единый язык подвергается естественному процессу расщепления, постепенно диалекты расходятся между собой, и постепенно образуются три отдельных восточнославянских языка: русский, украинский, белорусский. А внутри каждого из них еще много говоров: в русском — вологодский говор, архангельский, пермский, рязанский, орловский и т. д. — и точно так же в украинском и белорусском. Очень простая картина такого веника или дерева, которое растет из единого корня, а потом у него расходится все больше и больше ветвей, маленькие веточки расходятся. Картиной дерева это обычно и изображается, деревом и называется — генетическое или родословное дерево языков и диалектов.
А тут совершенно противоречащая этому картина. То, что по ожиданиям лингвистов, не имевших в своем распоряжении берестяных грамот, должно было произойти только в XVI–XVII вв., в лучшем случае в XV в., представлено уже в XI в., причем очень полно. Это полностью переворачивало картину. Более того, после того, как были систематизированы данные берестяных грамот по векам в соответствии с датировками, которые нам дают археологи, т. е. сначала грамоты XI в., потом XII в., XIII в., XIV в — по порядку, то выяснилась совершенно неожиданная, неправдоподобная с точки зрения лингвистики, как она видела это до тех пор, картина. Выяснилось, что в грамотах Новгорода XI–XII вв. количество диалектных особенностей по сравнению с тем, что можно назвать древнерусским стандартом (который мы хорошо знали, т. е. тот, который представлен в литературных памятниках), не меньше, а гораздо больше, чем в XV в.
Выяснилось, что движение было прямо противоположное. Это вещь, абсолютно перевернувшая лингвистические представления. Т. е. дерево росло, вовсе не разветвляясь, вместо этого его ветки сходились. Такое бывает в истории языков. Нельзя сказать, что лингвисты не имеют представления об этом. Одно движение называется в лингвистике дивергенцией, расхождением, второе называется конвергенцией, схождением. Схождение бывает реже, но оно тоже бывает. Но о том, что в истории русского языка диалекты подвергались схождению, а не расхождению, никакого представления до открытия берестяных грамот не было.