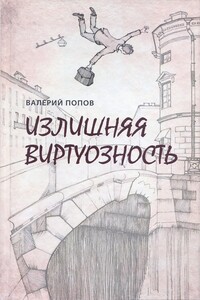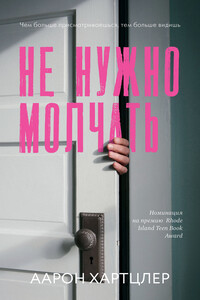Американец, или Очень скрытный джентльмен | страница 6
— Люди — заложники истории, история заключена в них, как кровь Христова заключена в потире, — говорит он.
— Никакие мы не заложники истории, — возражаю я. — Вот лично меня история никак не затрагивает, ну разве что материально. Я ношу вещи из полиэстра благодаря историческому событию — изобретению нейлона. Я езжу на машине, потому что был придуман двигатель внутреннего сгорания. Но неверно утверждать, что я поступаю так-то и так-то только потому, что во мне заключена история и она влияет на мои поступки.
— Ницше утверждает, что история — провозвестник новых истин. Любое событие, любой факт оказывают влияние на все грядущие эпохи и все последующие поколения Живущих.
— Ну и болваны эти самые Живущие!
Я разрезаю персик, и сок, словно плазма, растекается по деревянной столешнице. Я вытаскиваю косточку и, поддев ее кончиком ножа, зашвыриваю на клумбу. Земля между золотыми головками бархатцев усеяна, словно галькой, следами наших полуденных пиршеств.
Падре Бенедетто раздражен моим издевательским тоном. По его понятиям, насмехаться над человечеством — значит упрекать Господа, по чьему образу и подобию человек создан.
— Так зацикливаться на истории можно только в том случае, если не принимаешь ее всерьез, — продолжаю я. — Единственное, чему история нас научила — что мы слишком глупы, чтобы усвоить ее уроки. В конце концов, что такое история, как не правда о реальности, перелицованная в многослойную ложь теми, кому хочется представить себя в выгодном свете? История — всего лишь инструмент человеческого самолюбования. — Я с наслаждением высасываю сок из персика. — Вам, падре, должно быть стыдно.
Я не забываю улыбнуться, чтобы он понял: у меня не было намерения его оскорбить. Он пожимает плечами и тянет руку за персиком. В деревянной миске еще осталось пять штук.
Он чистит персик. Я поглощаю свой в молчании.
— Как же можно жить здесь, в Италии, где история повсюду, куда ни глянь, и относиться к ней с таким презрением? — спрашивает он.
Косточка его персика ударяется о стену и падает в бархатцы. Я обвожу глазами его садик. Ставни в окнах здания за персиковым деревом похожи на стыдливо опущенные веки — они словно боятся увидеть в окнах дома падре Бенедетто нечто неподобающее, например самого падре, принимающего ванну.
— История? Повсюду? Разумеется, здесь есть кое-какие развалины и древние постройки. Но история? С большой буквы? Я утверждаю, что вся история — ложь. Настоящая история — это не попавшая в анналы повседневность. Мы рассуждаем о римской истории и о ее громкой славе, но большинство римлян ничего такого не знали, да и не хотели знать. Много ли раб или лавочник знал о Цицероне, Вергилии, о сабинянах, о красе Сирмия? Да ничего. Для них история была набором отрывочных баек о том, как гуси спасли город, а Калигула сожрал свое нерожденное дитя. История тогда была старцем, бормочущим себе в усы. Не было у римлян времени на историю, когда монеты каждую неделю становились все легче и дешевле, а налоги каждый месяц росли, когда мука постоянно дорожала, а жара портила всем настроение.