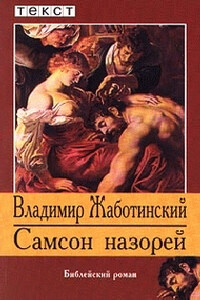Пятеро | страница 25
Еще как-то наблюдал я его под Новый Год, на студенческом балу в «мертвецкой». Бал всегда происходил в прекрасном дворце биржи (пышному слову «дворец» никто из земляков моих тут не удивится, а с иноземцами я на эту тему и объясняться не намерен). «Мертвецкой» называлась в этих случаях одна из боковых зал, куда впускали только отборнейшую публику, отборнейшую в смысле «передового» устремления души; и впускать начинали только с часу ночи. Пили там солидно, под утро иные даже до истинного мертвецкого градуса; но главный там запой был идейный и словесный. Хотя допускались и штатские, массу, конечно, составляли студенты. Был стол марксистов и стол народников, столы поляков, грузин, армян (столы сионистов и Бунда[59] появились через несколько лет, но в самые первые годы века я их еще не помню). За главным столом сановито восседали факультетские и курсовые старосты, и к ним жалось еще себя не определившее, внефракционное большинство. За каждым столом то произносились речи, то пелись песни; в первые часы ораторы говорили с мест, ближе к утру вылезали на стол; еще ближе к утру — одновременно за тем же столом проповедовали и со стола, и снизу, а аудитория пела. К этому времени тактично исчезали популярные профессора, но в начале ночи и они принимали перипатетическое[60] участие в торжестве, переходя от стола к столу с краткими импровизациями из неписанной хрестоматии застольного златоустия. «Товарищи студенты, это шампанское — слишком дорогое вино, чтобы пить его мне за вас, тем более вам за меня. Выпьем за нечто высшее — за то, чего мы все ждем с году на год: да свершится оно в наступающем году»… «Коллеги, среди нас находится публицист, труженик порабощенного слова: подымите бокалы за то, чтобы слово стало свободным…».
В тот вечер пустили туда и Марко, — хоть и тут я не помню, был ли он уже тогда студентом. Вошел он нерешительно, не зная, куда притулиться; кто-то знакомый его подозвал к столу, где сидя и стоя толпились черноволосые кавказцы — издали не разобрать было, какой национальности — там он уж и остался на весь вечер. Оглядываясь на него от времени до времени, я видел, что ему с ними совсем по себе: он подпевал, махал руками, кричал, поддакивал ораторам, хотя большинство их там, кажется, говорило на родном своем языке.
Когда сам мало пьешь, любопытно и грустно следить, как заканчивается разгульная ночь. Постепенно деревенеют мускулы зеленых или фиолетовых лиц, застывают стекляшками глаза, мертвенно стукаются друг о друга шатающиеся, как на подпорках, слова; на столах налито, у мужчин помяты воротнички и края манжет замуслены, а кто во фраке, у тех сломаны спереди рубахи; вообще, все уже стало погано, уже в дверях незримая стоит поденщица с ведром и половой тряпкой… Удивительно, по-моему, подходило к этой минуте там в мертвецкой заключительное «Gaudeamus»