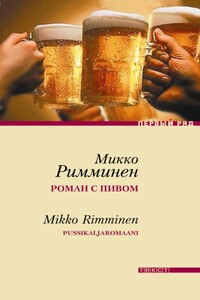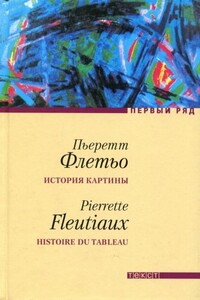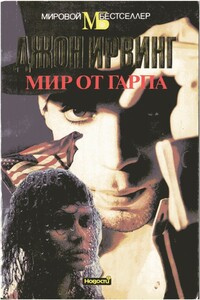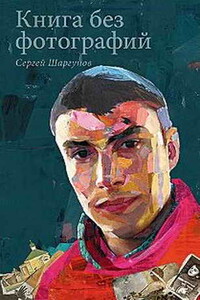Пора уводить коней | страница 49
Обходя свежие пеньки, я сперва выбрался на узкую посыпанную щебнем дорожку с тыла наших владений и по ней спустился лесом, держась не севернее, как мы ходили обычно, а южнее, в сторону от моста и магазина, хотя дойти до них сейчас было легче легкого, облака растаяли, и ночь стояла белая, как мукой обсыпанная, я отчетливо видел этот флер и при желании мог пощупать его пальцами, но я не мог. Хотя попытку сделал, растопырил пальцы. И так шел между темных деревьев, высившихся как колоннада по обеим сторонам, и скользил руками по воздуху, медленно-медленно вниз, медленно наверх сквозь пудру света, но я ничего не узнавал, хотя все было как всегда, словно бы в самую обычную ночь. Просто жизнь сместила центр тяжести, переступила с одной ноги на другую, как немая великанша под сенью огромных теней у скал, и то, как я ощущал себя сейчас ночью, совсем не походило на мое самоощущение в начале этих суток, но не знаю, был ли я тем расстроен.
Знать я вообще ничего не знал, да и был совсем мальчишка, короче, я пошел дальше. Внизу за лесом шумела река, а вскоре зазвучал ближайший к нам с южной стороны сэтер. Там за бревенчатыми стенами хлева топтались коровы, они чавкали или лежали на сене, перекатываясь с боку на бок, они вдруг затихали, но тут же принимались за прежнее, и глухой перезвон колокольчиков долетал до дорожки, по которой шел я, гадая, который теперь час ночи, сколько времени до рассвета и не свернуть ли мне к хлеву, чтобы шмыгнуть внутрь и посидеть там погреться, а уж потом двигаться дальше. Так я и сделал. Спустился по тропинке, по которой обычно поднимается стадо, мимо дома, в котором все было тихо и никто, насколько я мог видеть, не стоял у окна и не глядел во двор, распахнул дверь и шагнул в хлев, там пахло резко, но приятно, было тепло и надышанно, как я и надеялся. В проходе между сливными канавами стояла табуретка для дойки, я взял ее и сел, привалясь к стене рядом с входной дверью, которую я захлопнул за собой, закрыл глаза и погрузился в сопение коров, они тихо переминались в своих закутках и так же тихо жевали, изредка то звякая колокольчиком, то задевая стенку, а выше шелестело по крыше дуновение ночи, это был не ветер, но скворчание всего, чем ночь хотела переполнить меня. И так я заснул.
Проснулся я от того, что меня гладят по щеке. Мама, решил я. И почувствовал себя маленьким мальчиком. У меня же есть мама, подумал я, как же я забыл. И стал вспоминать ее лицо, черту за чертой, и наконец вспомнил, отчетливо, как вживе, но лицо перед глазами не принадлежало ей, и я еще походил под парусом между этими двумя мирами, одним полуоткрытым глазом в каждом, пока не увидел перед собой коровницу, на этом хуторе была такая женщина. Времени оказалось пять утра. Я много раз видел ее и говорил с нею. Я любил ее. Звенит, как серебряная флейта, сказал однажды про ее голос отец, когда она шла по дорожке и скликала коров, и перебором пальцев изобразил флейту. Я не знал, как звучит серебряная флейта, никогда не слышал этого звука, о котором был столь наслышан, но она улыбнулась, посмотрела на меня сверху вниз и сказала по-шведски: