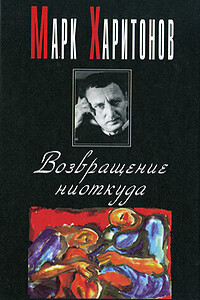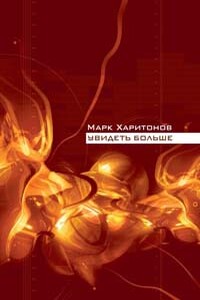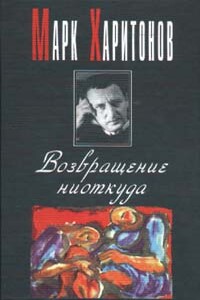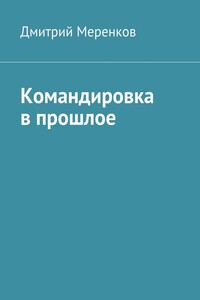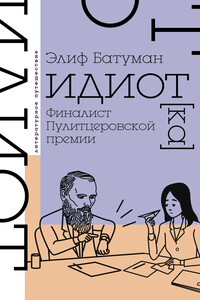Линии судьбы, или Сундучок Милашевича | страница 9
Конечно, домыслы есть домыслы; тут законен вопрос: не подгонял ли отчасти Антон Андреевич под собственное свое понимание автора, к которому с первого же знакомства ощутил душевную симпатию, даже родственную близость? Не станем сразу возмущенно это опровергать. Не занимаемся ли мы все чем-то подобным, когда толкуем книгу всякий на свой лад? — ведь она говорит нам то, что мы предрасположены или склонны услышать. Лизавин в душе не чужд был даже и сочинительству. Порой ему мерещилось нечто совсем уж рискованное. Например, что вынужденная разлука с Шурочкой оказалась для Милашевича более долгой, чем он сам дает понять, что нотка ревнивого соперничества, особенно в первом варианте рассказа, выдает уязвленные чувства, однако уже петербургский вариант свидетельствует о новом самоутверждении, и подлинное имя вновь обретенной женщины вставлено как сигнал торжества, тайно обращенный куда-то в пространство... Но это уже, как говорится, вовсе литература. Заметим лишь, что не случайно, видимо, в юмористических философствованиях Милашевича такое место занимает тема судьбы, которая осуществляется через самые невероятные случайности. Как причудливо складывается до поры собственная жизнь этого человека (насколько мы о ней можем судить): необязательная учеба, неточные, пробные увлечения, и вот однажды нежданный гость, его непредвиденная болезнь, вынужденный уход из дома, поневоле затянувшееся отсутствие, ссылка и возвращение, недоразумение с плагиатом, как будто нарочно придуманное — а в результате он приходит к тому, для чего, как теперь кажется, был создан и предназначен по устройству души и ума.
Как бы там ни было, после недолгой отлучки, вынужденный искать средства пропитания вне литературы, Милашевич снова оказывается, теперь уже добровольно, в месте своей былой ссылки. Лизавину Столбенец был хорошо знаком: здесь он пересаживался с электрички на автобус по пути в Нечайск. По неизвестным причинам железную дорогу проложили когда-то в трех верстах от города и там учредили станцию. У Милашевича есть забавная сценка, где подвыпивший пассажир, высадясь в Столбенце и не обнаружив окрест города, пугается, что не там сошел. С годами город и станция постарались подтянуться друг к другу, растеклись вдоль дороги жиденькими строениями — как амебы, что ли, подтягивающие друг к другу отростки,— пока не слились. Благо место было пологое, дававшее простор, не то что в Нечайске. Столбенец распластался почти вровень с озером, климат тут считался нездоровым, особенно в жару, когда вода зацветала. Зато на озерном донном иле и лыве — земле из перегнивших водорослей — выращивали редкостные урожаи знаменитых «белолобых» огурцов: полсотни таких вот громадных из одного семечка. Близость железной дороги делала Столбенец по сравнению с Нечайском центром городской цивилизации. Здесь раньше появилось электричество, было даже кино — электротеатр «Грезы» (нынешний кинотеатр «Прогресс»), а среди промышленности, обычной для мелких городков, то есть дубления кож, обжига кирпичей да извести-кипелки, выделялась карамельная фабрика Ганшина, снабжавшая сладким товаром всю губернию.