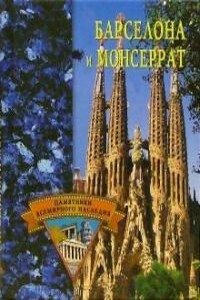Литература и фольклорная традиция, Вопросы поэтики | страница 48
В нарративном фольклоре повествователь сообщает о том, о чем все и всегда "говорят", момент повествования нерелевантен, и нет необходимости согласовывать время действия и время повествования. В древней письменности, также исходящей из всеобщности видения, эти два слоя находятся еще в синкретическом единстве-"время" растворяется в "вечности". С утверждением осознанного художественного вымысла в литературе связана фиксация момента повествования как художественной условности, которая первоначально сводилась к воспроизведению обстановки рассказывания. В процессе своего развития литература вырабатывает все новые способы ориентации событийного времени относительно времени повествования, причем можно говорить о двух основных путях решения этой задачи: в одном случае время действия, а в другом время повествования становится стилеобразующим началом. Между этими двумя крайними точками расположен практически неисчерпаемый спектр возможностей.
Таковы временные характеристики эпического повествования.
Если проследить за преобразованиями временной структуры фольклорных произведений в процессе жанрообразования, т. е. в историческом плане, то можно отметить две взаимосвязанные тенденции-сжатие событийного времени и его приближение к моменту повествования.
Переход от повествования к высказыванию - это одновременно и качественный рубеж, разделяющий различные виды художественного времени-время эпическое и время лирическое. В этом смысле лирический образ - идеальный ускоритель.
Таковы основные компоненты художественного времени. Сопоставление нескольких произведений на один сюжет обнаруживает содержательность временных категорий и неодинаковую их природу в эпосе и лирике как двух различных родах словесного искусства, с одной стороны, и в литературе и в фольклоре, как двух различных художественных системах, - с другой.
Глава вторая. Слово и событие ё фольклорном и литературном повествовании. Взаимодействие стилей
Единство слова и события - закон волшебной сказки
Вопрос о стиле начинается с проблемы отношения художественного слова к изображаемому событию. Этим объясняется и выбор аспекта, в котором рассматривается взаимодействие фольклора и литературы на уровне стиля- слово и событие; отсюда и обращение к жанру, наиболее отвечающему задачам такого исследования,-к сказке.
Обоснована ли при типологическом анализе опора на русскую волшебную сказку (пусть даже с выходами в сказочный фольклор других народов)? Дело, однако, в том, что в смысле жанровой "незамутненности" русская волшебная сказка выгодно отличается как от сказок тех народов, у которых сказка еще не сложилась в самостоятельный жанр (это- "досказка") , так и от волшебной сказки большинства (если не всех) европейских народов, менее устойчивой к воздействию других сказочных (и не только сказочных) фольклорных, а подчас и литературных жанров. Если можно говорить о классической форме волшебной сказки, то ее следует искать прежде всего в русском фольклоре. (Классическим образцом сказок о животных могут быть признаны прежде всего сказки африканские)2. В трудах Н. В. Новикова, Л. Г. Барага, П. Г. Богатырева3 и других советских исследователей отмечалась большая жанровая устойчивость русской волшебной сказки по сравнению с волшебными сказками ряда других славянских народов. Сошлемся также на высказывания двух немецких фольклористов, разделенных почти столетием, но объединенных общим восхищением самобытностью русской волшебной сказки. Первое высказывание содержится в предисловии Якоба Гримма к изданной в 1831 г. в Лейпциге книге "Русские народные сказки" (фактически это был перевод русских лубочных сказок, на что и указал Гримм не без сожаления), и выражает восхищение размахом вымысла в русской народной сказке, особенно такими моментами, как разговор героя с вращающейся избушкой, проникновение в ухо коня, полеты в поднебесье и т. п.4, второе принадлежит Августу фон Левису оф Менару, который в работе "Герой в немецкой и в русской сказке" (Иена, 1921) отмечает большую динамичность и изобретательность русской волшебной сказки по сравнению с немецкой5; в немецком фольклоре границы между сказкой волшебной и бытовой далеко не столь определенны. Иначе говоря, для типологического изучения русская волшебная сказка чрезвычайно удобна и репрезентативна.