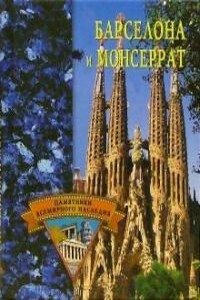Литература и фольклорная традиция, Вопросы поэтики | страница 45
Из всех известных нам фольклорных версий о расправе над зодчими наиболее бескомпромиссно болгарское предание "Крилатият майстор"; оно заканчивается трагической гибелью зодчего. Однако перед нами не исключение из правила, а его подтверждение: храм строится по повелению турецкого султана, и это вполне согласуется с историческими фактами, с той, однако, существенной разницей, что в предании действует безымянный болгарский мастер, тогда как известен подлинный строитель одринской мечети-знаменитый турецкий архитектор Синан, умерший в 1678 или в 1588 году. (Он, следовательно, был современником создателей Василия Блаженного) . В основе легенды лежит конфликт между зодчим и чужеземным поработителем, и в первой публикации текст не случайно был озаглавлен "Джамията Сулеймание в Едрене" - по имени турецкого султана. Так идеальное эпическое время связано с вполне определенными принципами сюжетосложения, основанными на "закругленности" конфликта - если только это не конфликт с пришедшей извне силой.
Кедрин, ссылающийся на "летописца сказанье", в исходном пункте традиционен: поводом для возведения собора служат внешние обстоятельства. Двадцать лет спустя Вознесенский находит новую мотивировку. У него царь строит храм,
Чтоб даря сторожил,
Чтоб народ страшил.
Исходный момент-иной. Казань-даже не упомянута. Причина-не в победе над врагом, хотя и вековым, но уже ушедшим в небытие. Рамки конфликта-не годы, не столетие, а "двадцать веков".
В эпической песне противоречия, как правило, сглажены. У Кедрина они нарастают в ходе повествования. У Вознесенского они существовали и прежде, до начала событий.
По-разному мотивируется и царское решение. В старинном предании зодчие лишь на время оказались в немилости. Кедрин все внимание сосредоточивает на трагической участи мастеров (хотя и намекает на моральное торжество зодчих: "И стояла их церковь..."). При этом стилизация "под сказанье" подчас не выдерживает современной идейной нагрузки: чтобы зодчие "не построили лучшего храма, чем храм Покрова", достаточно было их ослепить; страшные истязания остаются немотивированными-здесь скорее голос автора современной исторической повести, чем "летописца сказанье" (это как раз одно из тех мест поэмы, где нарушены и временные отношения).
У Кедрина зодчих ослепили, "чтобы белого света увидеть они не могли". У Вознесенского - потому что страшились глядеть им в глаза:
Очи - ой, отчаянны!
При подобной силе