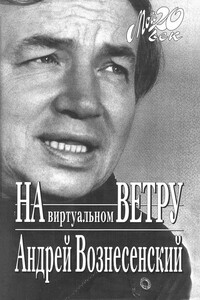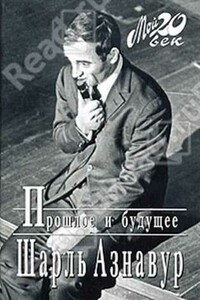Галина | страница 37
Тогда-то я впервые подумала о Боге.
Мальчика назвали Ильей — в память об отце Марка. Принесли мне сына кормить — он здоровущий, сильный, как взял грудь, так соски у меня и полопались. Грудница началась — нарывы на обеих грудях, высокая температура. А через девять дней выписали меня из больницы. Пришла домой — помочь некому, кто будет ходить за мной и за ребенком? Марк — мужчина, что с него спросишь? А тут и пеленки стирать надо, и сушить тут же, в комнате, и мне что-то дать поесть — я ведь ребенка кормлю.
Лежу уже месяц, встать не могу — температура 40. Ребенок кричит — есть просит, а кроме груди, что ему дать? Подношу его к груди — и кричу, что есть силы, чтобы заглушить дикую боль. И так через каждые три часа. Раны на сосках не успевают затянуться — он их снова разрывает.
В эти дни вдруг появился мой отец — узнал, что я родила, пришел навестить (пьяный, конечно!) с очередной своей женой. Посидел несколько часов — видел прекрасно, в каком я отчаянном положении, — и ушел. Эта чужая мне женщина, жена его, хотела остаться со мной, помочь, но он не позволил. А это спасло бы мне сына. Я уж и не возмущалась даже, у меня было одно-единственное желание — закрыть глаза и умереть, чтобы не слышать криков моего несчастного мальчика. Чтобы не было больше этой проклятой жизни. Почему я не умерла тогда — до сих пор не понимаю.
Кончилось тем, что ребенок получил отравление. Диспепсия, антибиотиков тогда не было, спасти не смогли. Он умер двух с половиной месяцев. Мы с Марком сколотили из досок гробик, обтянули белой материей, положили сына. Наняли машину, поехали на кладбище — помню, весна в том году была поздняя, шел снег, земля еще не оттаяла — трудно было копать могилку.
А через две недели театр уезжал на гастроли, и меня, полуживую, Марк увез с собой. А что было делать? Дома-то еще хуже, ухаживать за мной некому, а ему работать надо.
Чуть оправилась — опять работаю, как ломовая лошадь. Сейчас, когда пишу, не могу и представить себе, как же я все это вынесла? И было-то мне всего 19 лет.
Вернулась с гастролей в Ленинград — в комнату, где уже не кричал мой сын. Кругом разбросаны его рубашонки, чепчики, пеленки… Так сжалось сердце — дышать не могу. А был как раз сороковой день его смерти, и у нас, право славных, панихиду в этот день полагается служить. Конечно, мне об этом никто не говорил, и сама я не знала, но ноет сердце — места себе не нахожу (видно, ангельская душа его меня звала). Зову Марка на кладбище, а он, видя, в каком я состоянии, как я маюсь, не хотел, чтобы я туда ехала. Поссорились мы с ним, и поехала я одна за город. Лето уже, тепло.