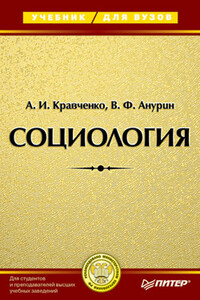История русской литературы XIX века. Часть 1: 1795-1830 годы | страница 22
Правила классицизма – пять актов, соблюдение единства времени, места и действия, александрийский стих в трагедиях – многими драматургами нарушались: действие сознательно вмещалось в четыре акта, его место и время менялись. Но основная перемена состояла в том, что в драматургическом конфликте чрезвычайно усилилась роль личных чувств, и противостояние долга и чувств далеко не всегда решалось в пользу долга. Это приводило к тому, что трагедия постепенно уступала место драме и даже мелодраме. Если сентименталисты побеждают в жанре трагедии, то просветители – в жанре комедии, особенно в «комедии нравов» (прежде всего численно). И хотя «комедия нравов» не дала значительных образцов[17], она подготовила появление блестящей комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
В.А. Озеров
Крупнейшим драматургом 1800-х годов был В.А. Озеров. Он начал литературную деятельность довольно поздно, тридцати пяти лет. Будучи чиновником, Озеров страстно увлекся театром и захотел попробовать себя в драматическом искусстве. В годы нашумевших постановок трагедий Озерова в России, пожалуй, не было более популярного человека. Пушкин в «Евгении Онегине» вспомнил то время, когда драматург был кумиром театральной публики.
Озеров написал несколько трагедий. Первый успех пришел к нему после постановки трагедии «Эдип в Афинах».
Сюжет трагедии, как видно из заглавия, был заимствован у Софокла. Однако Озеров следовал не столько Софоклу, сколько его французским переделкам, в частности трагедиям французского драматурга-сентименталиста Дюси (в России его называли Дюсис) и отчасти М. – Ж. Шенье, брата знаменитого поэта. Знал Озеров и русские переложения сюжета.
Драматург обработал античный сюжет в сентиментальном духе и возвеличил дочь Эдипа Антигону, любовь которой спасает отца от неминуемой смерти. Эдип Озерова вопреки античному источнику остается жить, погибает же Креон, выведенный в трагедии злодеем. Разумеется, в таком повороте сюжета принцип трагедии (власть Рока над Эдипом неизбежно должна привести к гибели героя) был искусственно и произвольно нарушен. Вяземский, поддержанный Пушкиным, справедливо писал, что Эдип перестает быть Эдипом и что «трагик не есть уголовный судья». Но у Озерова были свои резоны.
Драматург хотел, чтобы его герои выглядели на сцене, как простые люди, которым свойственны обычные чувства отцовской и дочерней любви, жалости, печали и сострадания. Он взывал к сочувствию зрителей, к их сопереживанию. И когда на сцене в одном из эпизодов появился Эдип, который сначала задумался, а потом стал рассказывать с остановками, паузами о своей горестной, несчастной судьбе, зрители почувствовали, что именно такими были переживания древнего старца. Современник вспоминал, что глаза многих людей увлажнились слезами, в руках дам замелькали батистовые платочки. Сентиментальность озеровского «Эдипа» пришлась по душе многим зрителям. В.В. Капнист в послании к драматургу писал: