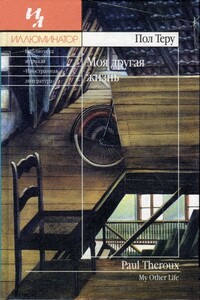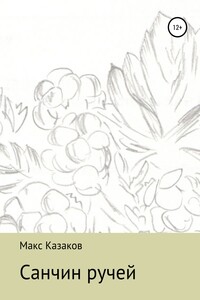Чтение в темноте | страница 67
— Видишь? — говорила. — Какая это боль! Огонь — это ты, ты — это огонь. Но остается зазор. Боль. Жжет. Горит.
И она снова плакала. Иногда разрешала мне держать ее за руку. Иногда смахивала мою руку и сидела с неподвижным лицом, а слезы катились, катились, и взмокал подбородок, и кожа в желобке шеи казалась текучей.
Приходил доктор, прописывал пилюли и капли. Она их принимала, успокаивалась, но от лекарств горе только сгущалось, как тромб. Когда оно одолевало, побеждало лекарства, маму трясло, глаза блестели от слез, не перетекавших за плотину век, опасных. Она так мучилась, что не могла плакать, хотела и не могла. Я трогал ее, пробегал пальцами от локтя к запястью, втирал мизинцем синие жилки, а она ничего не чувствовала. "Это моя мама, — убеждал я себя, — это мама". Я мечтал о таком волшебном шприце, я его всажу ей в руку, выдерну, весь наполненный черным горем, и буду всаживать, вынимать, всаживать, вынимать, пока он не выйдет совсем прозрачный, и я тогда посмотрю ей в лицо и увижу улыбку, и в глазах у нее будет веселье, которое я, кажется, еще не забыл. У нее были холодные волосы. Морщинистая кожа блестела, обтянув скулы. "Ох, Хоссподи Иисусе", — шептал папа, и святое имя шипело у него на губах, как змеи в гнезде. Он ласково брал ее за подбородок, поднимал к вечернему свету лицом, и она отвечала жалким, бедным подобием улыбки. Он отводил руку, она снова роняла лицо, и я думал, он думал, что она говорила: "Горит, горит", — но это был только бессмысленный звук, просто во всем, что сходило у нее с губ, нам звучало это слово, и папа, охнув, поднимался со стула, жаля мне ноздри меловым, соленым запахом доков, засевшим в складках спецовки, и было так, будто он сам произносил это слово, хоть он всего только прочищал горло. Я засовывал руки в носки, доставал до лодыжек и так стоял, собираясь с силами, чтоб уйти от этого наклонного лица, тихо сложенных рук, от тревожного холода черных, седых волос.
Мы с Лайемом играли в футбол и от ужаса бодро орали. При драке отвешивали друг другу звонкие плюхи, не сплетались, не обнимались в борьбе. Небо запрокидывалось к солнцу, падало в звезды, а она все шла и горела, едва шевелясь, и призрак не отступал и шел рядом, слышно, неслышно.
И вот наступил настоящий плач, смертные рыданья, страшные, как эпидемия. Хуже всего были воскресенья. Мы возвращались с обедни расфранченные, сестры — новенькие и одинаковые в светло-зеленых твидовых пиджачках, мы с братьями — стесняясь рубашек и галстуков и в разные стороны торчащих волос, по рекомендации Лайема смоченных густо сахарной водой, чтоб "красивей лежали".