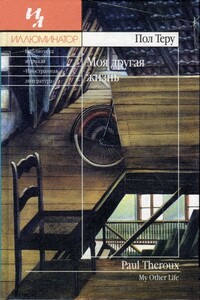Чтение в темноте | страница 14
Улочки, разбросанные вокруг винокурни, где сражался дядя Эдди, страдали, увечные, долгой неизбывной тоской. С винокурен ушли испарения виски, запах кирпичного жара, янтарно-закатное зарево, тускло медлившее, наверно, над испуганными домишками. Теперь зато у нас был готический собор, который, вместе с жильем для клира, смотрел с высоты своей серокаменной вечной зимы на это несчастное место, представлявшееся мне линялой и лысой заплатой, враждебной и чуждой немощеным улицам и тяп-ляп сгрудившимся постройкам, ледником сползшим по косогору от городской стены туда, где начиналась наша территория. В ранней зимней тьме, едва разбавленной слабыми уличными фонарями, мимо спешили тени, «спокойной ночи», «спокойной ночи» — и прочь убегали голоса.
Возле нашего дома было два простора. Поле на наших задах сбегало к Болотной; перейдя в шоссе, она лукой загибалась к Блучерской, а потом, распрямясь, спешила к полицейским казармам. Это шоссе с обеих сторон было забрано каменным валом с плоским парапетом, по нашу сторону всего в полтора метра, а по другую — в четыре. По другую сторону начинался Минанский парк, хотя взрослые называли его по-старому: Поле Уотта — по имени хозяина винокурни. Можно бы взобраться на вал и спрыгнуть по другую сторону; но вал проходил по изножью улиц — Липовой, Тирконелла[3], Буковой, Вязовой, и каждая его рассекала прямоугольным просветом, в котором сквозили спускавшиеся к парку ступени. Строй бомбоубежищ отделял верхнюю часть парка от нижнего пустыря, где мы гоняли в футбол. Ночью в поле и в парке было темным-темно. Единственный тусклый, низкорослый и гнутый фонарь в конце каждой улицы — вот и все освещение. Нам строго-настрого запрещалось играть ночью в парке, потому что там бродит призрак дедушки Уотта и хочет отомстить за разоривший его пожар. Кто видел его, говорили, что он просто шатается под деревьями черной тенью, но у тени этой есть рог, и рот разевается, а там бушует пламя.
Чтоб добраться до винокурни, нам надо только перейти Блучерскую, пройти бульвар Эглинтона, пересечь Торфяник — слева скотобойня — в лепешках, катышках, лужах коров, овец, свиней, которых сбрасывали грузовики с откинутыми бортами. Здесь, громадная, краснокирпичная, почернелая, страшная, давила целый квартал винокурня. И тыкала в небо черными культями стропил. Иногда, проходя, я слышал отчаянные вопли свиней. Вопли были до того человеческие, что я ждал: вот распадутся на слова, будут молить о пощаде. Они эхом отдавались в пустой винокурне, рыданьями просачивались сквозь разрушенные полы, застревали в черных кирпичах. Я слыхал, что люди выбежали из домов, когда началась пальба и полиция сомкнула кольцо. Толпа на улице возле Торфяника завела повстанческие песни, полиция открыла огонь поверх голов, толпа рассеялась. Стрелки ИРА с крыши, из окон верхнего этажа послали несколько выстрелов — спичечными вспышками в небо. Огонь перекрыли, их окружили, они погибли. Это был прощальный протест при образовании нового государства. Потом — взрыв, здание сотряслось, вспыхнуло. Никто не знал, будут ли его восстанавливать и когда или снесут ради новой застройки. А пока оно оставалось жженой раной в сердце околотка.