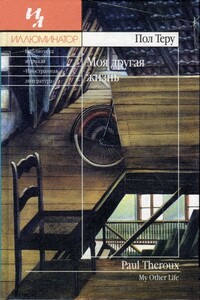Чтение в темноте | страница 110
Я принял почти как милость, когда с мамой случился удар и у нее отнялся язык. Это было как раз в шестьдесят восьмом, в самом начале волнений. Я смотрел на нее, опечатанную немотой, и теперь она мне слегка улыбалась и тихонько, почти незаметно, покачивала головой. Будто все заодно опечатывала, закрывала. Наконец нам можно было снова любить друг друга. Повезло мне с тобой.
Нас травили газами, нас обстреливала армия, мы видели или слышали взрывы, артиллерийский огонь, совсем рядом путались звуки — звон битых стекол, разрывы гранат, разобщенные крики, — и все сливалось в ровный рев и опять рассыпалось дробью дубинок по щитам восставших. Телевизор теперь вообще не выключали, и она, не видя, смотрела на экран. Ее молили не стоять у окна, но нет, она стояла, смотрела, как стреляют — и солдаты, и снайперы ИРА. Никак было не отвадить ее от этого дежурства на лестнице, этого патрулирования чердака и кухни, где старинный очаг выложили плиткой и огонь горел теперь голый, пошлый.
Иногда они с папой, держась за руки, вместе смотрели телевизор, слушали уличный шум — крики, шальные выстрелы, а то грохот разорвавшейся в городе бомбы. Они остались одни. Все разъехались, обзавелись семьями, правда, мы их часто навещали. Я вот думал — что такое был для них этот телевизор, эти звуки снаружи. Дважды в доме шуровали английские солдаты; Эймона арестовали и отпустили; Джерарда избили полицейской дубинкой. И все время папа молчал — как мама. В том, как она гладила его руку, косо ему улыбалась, подставляла голову ласковым пальцам, мне виделось, что она в своем молчании просила, чтоб он ее понял. Мне открывалось то, чего я в детстве не понимал: была промеж них любовь.
И вдруг папу свалил сердечный приступ. Он потерял свою пенсию, года недотянул до стажа. И они сидели оба, беспомощные, подавленные уличным грохотом и пропагандой с экрана.
Я приехал на выходные, в пятницу вечером. Неделька была жуткая. В среду улицу прочесывали стрелки ИРА, и застрявший у нас на крыльце английский солдат был убит наповал снайперской пулей. Папа услышал стук, выбрался из кресла, приоткрыл дверь. И тут же снова захлопнул, и оба услышали, как ломятся в дверь, орут и стреляют другие солдаты. Когда я приехал, папа еще не пришел в себя; потом, часа через два, в дверь постучали. Я открыл. Человек на пороге помялся, снял шапку, спросил, с кем бы можно поговорить насчет солдата, которого тут в среду убили. Я рта не успел раскрыть, а он уже пояснял, что он не из полиции, не из разведки. Он тому солдату отец. Я пригласил его войти. Он представился родителям, сказал, что сам-то он из Йоркшира, шахтер, а вот сына его Джорджа, значит, убили у нас на крыльце. Может, видел кто, как дело было. Нависло молчание. Родители на него смотрели. Он знает, конечно, сказал шахтер, как народ тут относится к английским солдатам. Так ведь сын же. Папа — в те дни он мучился одышкой — предложил ему чашечку чая. Я подал чай. Мама смотрела на англичанина открытым взглядом, который дается обреченным на немоту.