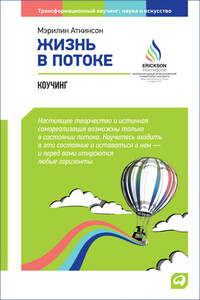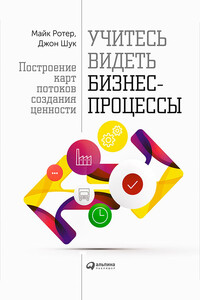Как Запад стал богатым (Экономическое преобразование индустриального мира) | страница 29
История средиземноморской торговли даже после эпохи средневековья неразрывно сплетена с историей пиратства и грабительских набегов. Вражда между христианством и мусульманством создала условия для взаимных грабежей. Военные действия никогда не прерывались. Пираты получили легальный статус под именем каперов, что ослабило военные флоты и лишило их сил противостоять пиратам и осуществлять правительственный контроль над такими местами, как Крит, без гаваней и рынков которого не могли бы существовать высокоприбыльные пиратство и контрабанда.
Грань между пиратством и каперством была порой исчезающе тонка. С точки зрения испанцев, Френсис Дрейк был пиратом, но когда он вернулся в Англию из успешной экспедиции 1577--1580 годов, королева Елизавета пожаловала ему рыцарский сан прямо на палубе его флагманского корабля. И у нее были для этого причины: пайщикам товарищества, которое финансировало его экспедицию и к которому принадлежали сама Елизавета и ряд ее министров, он привез прибыль в 4700%. Невиль Вильямс оценивает прибыль Елизаветы не менее чем в 300 тысяч фунтов, включая сюда доход на ее долю акций и подарки [Neville Williams, The Sea Dogs: Privateers, Plunder and Piracy in the Elizabethan Age (New York: Macmillan Publishing Co., 1975), pp. 118, 145]. Мало удивительного, что требования испанского посла о возврате награбленного остались не услышанными.
Морская торговля неизменно была источником мятежей. Ведь она всегда была сопряжена с завоеваниями, с межкультурными и межличностными контактами, в ходе которых сталкивались обычаи, верования и интересы чужих друг другу людей и народов. И влияние этих контактов никогда не было односторонним. В силу особенностей профессии моряки оказывались вне сферы влияния семьи, церкви и государственной власти. Профессиональный риск освобождал их от условностей и воспитывал недоверие к действиям береговых властей, которые пытались регулировать морскую торговлю, не подвергаясь ее опасностям. При этом моряки не были классом отверженных; среди вождей этих морских скитальцев были весьма состоятельные и влиятельные купцы и капитаны. Некоторые, подобно Дрейку, стали национальными героями.
Внеправовой характер морской торговли не был, однако, простым беззаконием отдельных авантюристов, которые в морях искали свободы от домашних ограничений. С 1500 до 1800 года некоторая достаточно солидная часть мировой морской торговли шла с нарушением законов тех или иных государств. Но и тогда, как и теперь, для пиратства и контрабанды на океанских маршрутах требовались развитые сухопутные базы. Надо было строить и оснащать суда, снабжать их экипажем и провизией; ткать парусину и шить паруса; нужны были канатные фабрики, являвшиеся последним словом тогдашней техники. На островных базах нельзя было лить пушки, изготовлять ружья и пистолеты. Контрабандные и награбленные грузы нужно было сбывать оптовым торговцам, да так, чтобы они смогли потом попасть в легальные каналы розничной торговли. Всего этого нельзя было делать в изоляции от нормальной морской торговли. Прямо или косвенно, но знания о беззаконии, участие в нем и в его прибылях должны были быть широко распространенными. Несомненно, что купцы, кораблестроители и лавочники мало размышляли о политическом и экономическом значении того, чем занимались. Если бы они вздумали философствовать, то смогли бы осознать сдвиг от феодального представления о благоустроенном обществе как об упорядоченной, иерархически устроенной и патриархальной семье к представлению XVIII века, согласно которому общество есть ассоциация индивидуумов, каждый из которых наделен неотчуждаемыми правами и свободами, которые не должно урезать, говоря опять же словами Смита, с помощью законов, делающих преступным то, что "природа никогда не предназначала к этому".