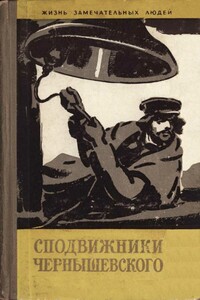Мысли перед рассветом (фрагмент) | страница 30
Этот парадокс действительно имеет место, и он давно известен. Такой социально значимый факт, как превращение науки в самодовлеющую инерционную систему, не мог остаться незамеченным. Уже на рубеже нашего столетия О.Шпенглер выдвинул теорию сменяющих друг друга "цивилизаций", или "культур", каждая из которых "создает свое собственное естествознание, которое только для нее истинно и существует столько времени, сколько существует культура, осуществляя свои внутренние возможности". Примерно к этому же приводил "конвенционализм" -- философское течение, основанное А.Пуанкаре и влившееся затем в логический неопозитивизм. Недавно сходные со взглядами Шпенглера воззрения обнародовал Т.Кун в книге "Структура научных революций", введя даже специальный термин "парадигма" для обозначения совокупности предзаданных установок и догм, неважно, верных или нет, которыми руководствуется данная наука и которые она яростно охраняет от искажений и критики. Примечательно, что книга Куна вызвала большой резонанс -- зто показывает, что диагноз болезням современной науки поставлен достаточно правильно. Конечно, теории Шпенглера и Куна суть почти тривиальные следствия позитивистского образа мысли, пронизывающего всю нашу "цивилизацию". Коль скоро наука не рассматривается больше как орудие достижения вечной и единственной истины, а трактуется как просто удобное средство описания внешнего мира, как нечто вроде стишков, самих по себе бессмысленных, но помогающих запомнить созвездия Зодиака или обозначения спектральных классов звезд, то принимать или отвергать "парадигму" остается только с помощью голосования. При этом совпадение или несовпадение с фактами будет расценивать116 ся как одна из многих равноправных характеристик теории (наряду с такими, например, как привычность терминологии или "диссертабельность" ее проблем), по совокупности которых и будет приниматься решение. Если бы позитивистская концепция была верна, то рассмотренный нами кризис дарвинизма был бы заурядным кризисом парадигмы, описанным Куном, и нам не стоило бы ломать ради него копья. Так же мало оснований для тревоги было бы у нас, если бы мы приняли точку зрения диалектического материализма об абсолютной и относительной истине. Недаром советский астроном В.Гинзбург, обсуждая теорию Т.Куна, замечает, что смена "парадигм" выглядит для диалектико-материалистического науковедения трюизмом -- каждая новая парадигма на один шаг ближе к абсолютной истине, достигаемой лишь в пределе, в бесконечности. Ах как хотелось бы и позитивистам и марксистам навечно утвердить тезис об условности или относительности всякого познания, вытравить изо всех умов этот проклятый вопрос: "А как все-таки устроен мир на самом деле ~" Сколько было затрачено усилий на объяснение, разжевывание, растолкование того обстоятельства, что такой вопрос ненаучен, лишен смысла, архаичен, что современному интеллигентному человеку неприлично его ставить, что истина -нечто вроде горизонта: ты идешь к ней, а она с такой же скоростью уходит от тебя, -- а крамольный вопрос продолжает время от времени возникать в сознании отсталых людей и портит им удовольствие, которое они могли бы испытать, крутясь в уютном замкнутом мирке лабиринта! Как были бы счастливы проповедники автоматизма вселенной, если бы им какимнибудь декретом, как о том мечтал еще Лейбниц, удалось раз и навсегда узаконить это бесконечное ко117